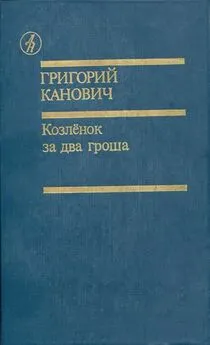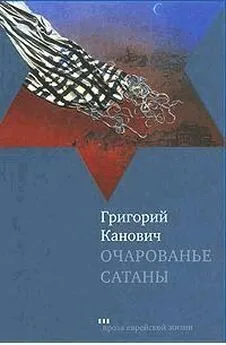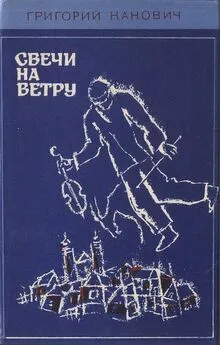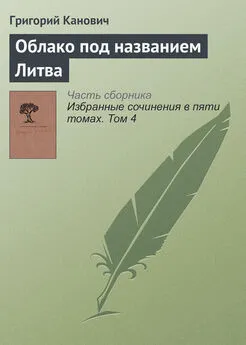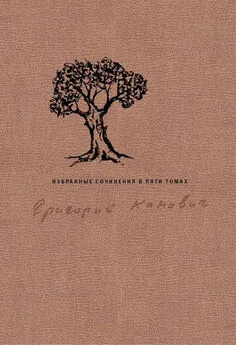Григорий Канович - Козленок за два гроша
- Название:Козленок за два гроша
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Известия
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:5-206-00064-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Канович - Козленок за два гроша краткое содержание
В основу романа Григория Кановича положена история каменотеса Эфраима Дудака и его четверых детей. Автор повествует о предреволюционных событиях 1905 года в Литве.
Козленок за два гроша - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Господи, какое счастье — дорога! Стоит еврею сделать остановку, и на него сразу же все беды обрушиваются. Но пока еврей едет, нет на свете человека счастливее, чем он. Даже если он едет на похороны.
Эфраим и Шмуле-Сендер знают друг друга шестьдесят, а может, и больше лет. Начнешь считать — со счета собьешься. Вместе в рекруты уходили, вместе на русско-турецкой воевали, вместе в окопах бога молили, чтобы уберег и вернул их живыми-здоровыми на родину, в Литву, в их тихое и мирное местечко.
Еще в детстве оба поклялись не расставаться до самого смертного часа.
— Я умру раньше тебя, — уверял водовоза Эфраим.
— Нет, раньше умру я, — великодушно возражал Шмуле-Сендер. — В роду Дудаков все долгожители. Кто родился на кладбище, тот живет столько, сколько праотец Авраам.
— Я родился в избе.
— Ты — в избе. А твой дед?
— И дед в избе.
— Не в избе, а на кладбище, — втолковывал Эфраиму Шмуле-Сендер.
— На кладбище? — брови Эфраима взмывали вверх, как две ласточки.
— В Мишкине тогда чума свирепствовала. Косила всех без разбору. Всполошились евреи, наняли старовера Кирьянова, поставили у ворот кладбища, положили золотой — целый золотой! — в день и велели: «Как только пронесут покойника, кричи, Иван, благим матом: «Нет тут больше места! Нет тут больше места!»
— Ну и что?
— Первый день еще прошел так-сяк. А второй!.. То ли Кирьянову заплатить забыли, то ли по другой причине — Иван стоит у ворот и во всю глотку кричит: «Всем места хватит! Всем места хватит!» Чума и распоясалась. К вечеру — двенадцать трупов. Прибежали евреи к раввину: «Рабби, что делать?» А рабби им в ответ: «Беременную найдите». Нашли беременную — прабабку твою, Черну, царство ей небесное, привели к раввину. «Впрягите ее в соху и проведите между кладбищем и местечком межу глубиной в пять вершков и шириной в двадцать!» Прадед твой Генех чуть ему глаза не выцарапал: «Сами, рабби, впрягитесь! Черна вам не вол и не лошадь!» Упали люди на колени перед твоим прадедом и давай его умолять. И что ты, Эфраим, думаешь? Как только Черна вспахала межу, дед твой Шимен, да будет благословенно его имя, и запищал. И чума, услышав писк младенца, сдалась и отступила из местечка. С тех пор и чума, и моровая язва, и проказа обходят его стороной.
Старик Эфраим может слушать Шмуле-Сендера целыми часами, хотя и не верит ни в чудотворную межу, ни в старовера Кирьянова, согласившегося за золотой отпугивать чуму, ни в другие байки.
Пусть Шмуле-Сендер привирает. Вранье — вино бедных, медовый напиток горемык.
Но сегодня Шмуле-Сендер молчит. Даже лошадь не понукает. Сидит, нахохлившись, смотрит на большак, на придорожные деревья, и мысли его переплетаются, как ветви, и сквозь гущу ветвей проступает не мишкинская почта, а далекая-предалекая Америка, город Нью-Йорк, где сын Шмуле-Сендера белый Берл торгует белыми часами.
Водовоз завидует Эфраиму. Эфраим за письмом едет. За письмом. А от белого Берла ни слуху ни духу. Ни белых, ни — упаси бог! — черных писем. Письма! Письма! Для того ли Шмуле-Сендер и Эфраим растили детей, чтобы в жару и стужу тащиться на почту за жалкими крохами радости. Хорошо еще, если радости. А вдруг горе? Господь, как известно, радость отвешивает крохами, а горе караваями. И потом, разве из крох радости соберешь живого Берла или Церту?
Шмуле-Сендер, думает старик Эфраим, глядя на взмокшую спину возницы, еще грех жаловаться. Белый Берл ни в кого не стрелял, не наградил господь водовоза и дочерью, не сподобил его чести иметь внука-байстрюка и зятя-фармазона.
Эфраиму страх как хочется, чтобы Шмуле-Сендер заговорил с ним о Гирше, о зерноеде Шмерле-Ицике, о раненом виленском генерал-губернаторе, о своем удачливом белом Берле (три года прожил в Нью-Йорке и каменный дом купил. Каменный!) — пусть говорит о чем угодно, только не студит его душу молчанием.
— Послушай, Шмуле-Сендер, — начинает Эфраим, — ты мог бы быть палачом?
— Лучше быть Ротшильдом.
— Мог бы, скажем, вздернуть человека? — не унимается каменотес.
— Как это вздернуть?
— Намылить веревку, накинуть ее на шею…
— Тебе?
— Мне… Авнеру… или…
Шмуле-Сендер понимает, куда клонит Эфраим. На уме у него не Авнер, а сын Гирш. За покушение на генерал-губернатора его, Гирша, по головке, конечно, не погладят. Если признают виновным — а еврей еще до рождения, до выстрела в губернатора, до суда виноват, — то дела его плохи: в тюрьме сгноят или, как говорит Эфраим, вздернут на виселице.
Лошадь трусит по большаку. Шмуле-Сендер помахивает кнутом скорее для вида, чем для острастки. Старик Эфраим придерживает шапку — не дай бог, ветер сорвет, потом гоняйся за ней, как мальчишка за бумажным змеем.
— По-моему, — говорит Эфраим, — в каждом из нас два человека живут.
— У меня и для одного места мало, — отшучивается Шмуле-Сендер.
Ровный большак навевает неодолимую сладкую дремоту. Кажется, мать качает люльку, и тебя, маленького, беззащитного, кидает, как щепку, из стороны в сторону.
— Два человека в каждом из нас… два… Один намыливает веревку, другой стоит на табурете и молится.
Шмуле-Сендер не перечит Эфраиму. Два так два. Пусть победит не тот, кто намыливает веревку, а тот, кто стоит на табурете. Но разве, стоя на табурете, победишь?
Вот и мишкинская почта.
После Воскобойникова (он отравился кабаниной) почтарем там служит Ардальон Игнатьевич Нестерович — бывший их урядник. Прежний почтарь не только подтирался чужими письмами, но и скручивал из них самокрутки. Бумага тонкая, заграничная, с приятным ароматом. Сколько он, нечестивец, писем скурил — одному богу известно. До сих пор над крышей мишкинской почты не облака плывут, а дымки от писем — горькие, сладкие, недосягаемые дымки!
Ардальон Игнатьевич в отличие от Воскобойникова не курит и к письмам оттуда относится иначе — с почтением и тайным любопытством. Ни одному не даст пропасть. Как можно: люди из-за моря-океана пишут, и не кому-нибудь, а своим родичам, родителям, на веки вечные оставшимся в России.
Правда, и за Нестеровичем водится грешок — любит подношения. Но разве при почтарском жалованье подношения — смертный грех?
Придешь за письмом, Ардальон Игнатьевич непременно справится: ну как они там, наши беглецы, деньги, небось, лопатами загребают? Бросили отчизну ради златого тельца… Его, Ардальона Игнатьевича, на кусочки изруби, сунь в чемодан, перевези за границу, он там соберет себя и пешком домой, в Россию, потопает. Привет им, беглецам, передайте… от бывшего урядника… Твой Берл, наверно, уже забыл, как я ему уши надрал, когда в мой сад за яблоками лазил… А в чей нынче лазит?.. А твоя, Эфраим, Церта с моей Катюшей на речку белье полоскать ходила… пигалица… Говоришь, в Киеве она?.. Ну, Киев — не беда… Киев, Эфраим, наш, русский…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: