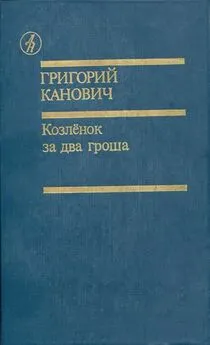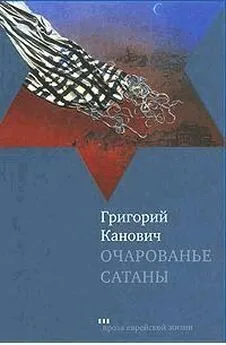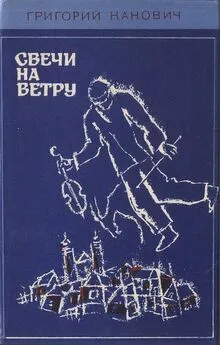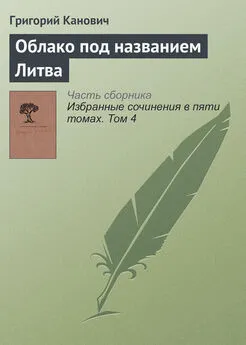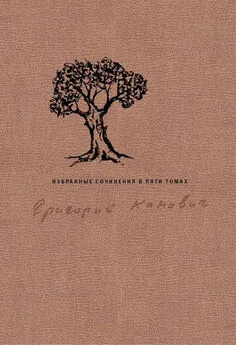Григорий Канович - Козленок за два гроша
- Название:Козленок за два гроша
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Известия
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:5-206-00064-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Канович - Козленок за два гроша краткое содержание
В основу романа Григория Кановича положена история каменотеса Эфраима Дудака и его четверых детей. Автор повествует о предреволюционных событиях 1905 года в Литве.
Козленок за два гроша - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Никто из них толком не знает, как проходит военно-полевой суд. Надо запастись терпением, доехать до Вильно, а там Шахна все растолкует, все объяснит. Эфраим, как зеницу ока, хранит адрес сына — Большая, 10. Большая улица, на которой живет большой человек. Так и должно быть: на маленьких — маленькие, на больших — большие. Шмуле-Сендер зря выхваляется своим белым Берлом. В Америке что — только шевели мозгами, только подкарауливай удачу, она там расхаживает, как городовой; там, в Америке, нет черты оседлости и евреев нет, то есть евреи имеются, но они — и Берл Лазарек в их числе — уже как бы неевреи… а американцы… евреи те, кого бьют… (так в своих письмах пишет Берл). А тут, в Мишкине ли, в Россиенах ли, в Вильно ли — уж о Киеве и Одессе говорить нечего — еврей вроде бы и не человек. Какой-нибудь исправник Нуйкин может среди бела дня ни за что ни про что схватить тебя за бороду и ради потехи водить по местечку, как медведя; и не смей эту бороду выдергивать — улыбайся, улыбайся, улыбайся, благодари за честь и внимание.
Будь Шахна в Америке, он бы не часами торговал, а с его головой стал бы…
Тарахтение телеги мешает Эфраиму придумать, кем бы стал его Шахна.
Впереди скребет своими верхушками небосвод мишкинская пуща.
Телега въезжает в нее, и нищий Авнер на всякий случай пододвигается поближе к Эфраиму. Силен старик, силен! Восемьдесят лет минуло, а сил словно не убыло, а даже прибавилось. Что из того, что сила его покрыта морщинами, припорошена инеем. Ведь и он, Авнер, и Шмуле-Сендер белы как снег.
В лесной тишине скрип телеги напоминает крик коростеля.
— В дороге, — говорит Авнер, — хорошо думать или что-нибудь уминать.
— Хочешь есть? — спрашивает Шмуле-Сендер, ведающий, как муж Фейги, провиантом.
— Нет. Я хочу думать, — скалит редкие зубы Авнер.
— Думай. Кто тебе мешает? — милостиво разрешает водовоз. — Думай. Мыслей у человека всегда больше, чем харчей.
— А я хочу думать вслух, — говорит Авнер.
— Думай вслух, — соглашается Шмуле-Сендер. Доброте его, кажется, нет ни конца, ни края. Ему хорошо. Ему очень даже хорошо. И едет он не по лесу, а по нью-йоркской улице (стрит, как пишет белый Берл), и с каждым поворотом колеса все ближе дом, на котором, как письмена на синагоге, золотом сияет вывеска: «Мистер Берл Лазарек. Лучшие часы в мире!» О чем бы Авнер ни думал, он, Шмуле-Сендер, не может остановить своего движения к этой благословенной вывеске, к этим золотым письменам, каждая буковка которых горячит и убыстряет в высохших жилах кровь. Лучшие часы в мире, беззвучно хвастается Шмуле-Сендер перед необозримой мишкинской пущей. Лучшие часы в его, Шмуле-Сендера, жизни. Как бы хотелось ему перед смертью припасть к ним законопаченным невзгодами ухом, услышать их тиканье, а потом… А потом ничего, ничего не страшно. Потом пусть время остановится, как остановились эти гордые литовские деревья.
— Что же ты, Авнер, не думаешь? — подхлестывает нищего Эфраим.
— Думаю, думаю, — приговаривает Авнер. — Думаю, почему я не с ними, а с вами?
— С кем… с ними? — удивляется Шмуле-Сендер.
— С деревьями, — отвечает нищий. — На свете вон сколько всяких народов и племен: и русские, и литовцы, и поляки, и мы…
— Ну? — предвкушает что-то сладкое, как изюм, Шмуле-Сендер.
— Мог же я, скажем, родиться ольхой… или ясенем… или кленом…
— Родиться ольхой… ясенем? — Шмуле-Сендер отпускает вожжи, поворачивается к Авнеру и Эфраиму, и кнутовище с измочаленной конопляной плеткой застывает в его руке вопросительным знаком.
— Если бы всевышний перед моим рождением спросил меня: «Авнер Розенталь! К какому роду-племени ты желаешь принадлежать?» — я бы ему ответил: к роду-племени деревьев.
— Тебе хочется всех пережить? — спрашивает Эфраим.
— Нет. Я хочу жить, как дерево…
— Ничего не чувствовать? — допытывается Шмуле-Сендер.
— Нет. Я хочу шуметь листьями, тянуться к небу, весной зеленеть, осенью желтеть… хочу, чтобы белка жила в моем дупле… Белка, а не печаль… И чтобы дятел долбил мою кору. Дятел, а не срам… не посох нищего…
— Ну что ты, Авнер, — нескладно утешает его каменотес Эфраим. Слова нищего, как угли. Эфраим перебрасывает их из сердца в голову, как из одной руки в другую, но они все равно жгут. Дерево Розенталь, думает Эфраим. Дерево Лазарек. Дерево Дудак. Дерево Мандель.
— А если тебя, Авнер, срубят? — сверлит нищего недобрым взглядом Шмуле-Сендер. Что за чушь он несет? Принадлежать к роду-племенн деревьев? Да деревья все одинаковые, нет среди них ни одного белого Берла, торгующего самыми лучшими в мире часами, нет ни одного Шахны, посылающего отцу каждые полгода два червонца. Правда, дерево… ясень… клен… не убежит с проезжим фармазоном. Дуб или вяз не станут палить в генерал-губернатора. Но сколько их, этих убегающих и палящих? Сколько? Раз-два и обчелся.
— Корень всегда останется. От корня новое дерево пойдет, — говорит Авнер.
— Значит, твой народ… народ евреев тебе не нравится? — пытается вытянуть затекшие ноги Эфраим.
— Нравится. Мне все народы нравятся. Все. Но лучше быть ольхой… А теперь, Шмуле-Сендер, скажи-ка своей гнедой «Тпру». Пора помочиться.
— Тпру, — как спросонья выкрикивает водовоз. — Тпру.
Все трое слезают и, отойдя друг от друга шагов на десять, заскорузлыми пальцами принимаются расстегивать свои видавшие виды портки.
Вечереет.
Лошадь осторожно ступает по лесной дороге. Мишкинская пуща вплотную подходит к телеге. Слышно, как о грядку чиркают мохнатые ветки елей и сосен, и пахучая, никогда не вянущая хвоя осыпается на седоков. Нет-нет да упадет тугая ядреная шишка, начиненная неземным смыслом.
Какой-то тревожный гул, то затихая, то нарастая, преследует телегу через всю пущу, и от этого размеренного, неумолчного гуда глохнет не только озвучивающий мысль голос, но и сама мысль.
— Она что, быстрее не может? — ежась от наступившей темноты, корит Шмуле-Сендера Авнер. — Тащится, как мертвая.
— Разбойников боишься? — подзуживает его Шмуле-Сендер.
— Я? Разбойников? Хи, хи, хи, — смеется Авнер, и снова мелкие козьи орешки сеются на дорогу. — Это разбойники, кецеле, нищих боятся. Говорят, напал однажды разбойник на нищего и замертво упал: стерег, стерег, а у бедняги карман в дырах. Вот когда, бог даст, твой Береле по этой пуще из Нью-Йорка поедет!..
— Да чтоб у тебя язык к зубам присох, дурень ты несчастный! Больше я у тебя ни одной горсти изюма не куплю!.. Ни одной пригоршни мака! К Славину пойду!
— Напугал!
— Мой Берл, да будет тебе известно, поедет не вечером, а днем, и не на телеге…
— А на чем?
— На самоходной карете. Понимаешь?
— Самоходной кареты и у графа Завадского нет — откуда она у твоего Берла? — по-купечески торгуется Авнер. — И вообще, что это такое?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: