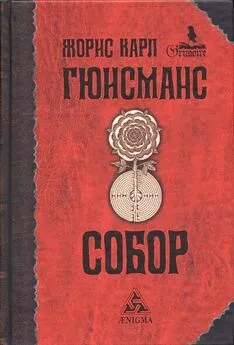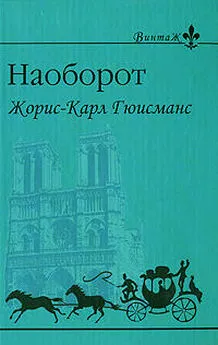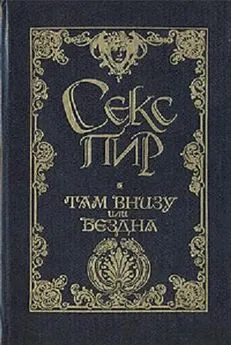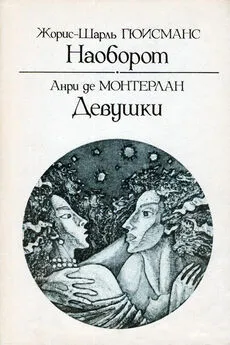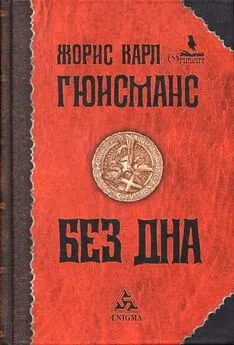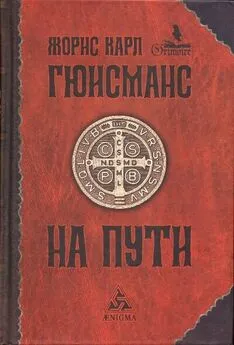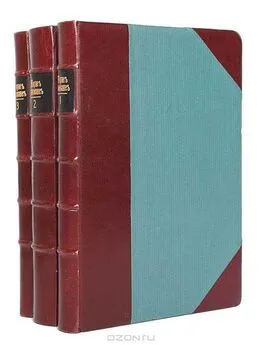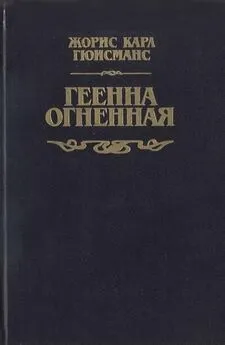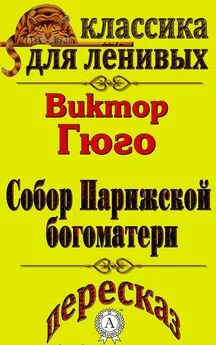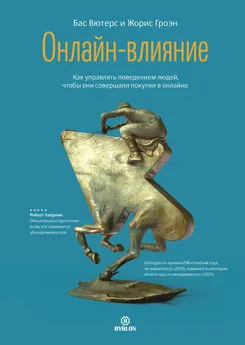Жорис-Карл Гюисманс - Собор
- Название:Собор
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Энигма
- Год:2012
- Город:М.
- ISBN:978-5-94698-043-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жорис-Карл Гюисманс - Собор краткое содержание
«Этот собор — компендиум неба и земли; он показывает нам сплоченные ряды небесных жителей: пророков, патриархов, ангелов и святых, освящая их прозрачными телами внутренность храма, воспевая славу Матери и Сыну…» — писал французский писатель Ж. К. Гюисманс (1848–1907) в третьей части своей знаменитой трилогии — романе «Собор» (1898). Книга относится к «католическому» периоду в творчестве автора и является до известной степени произведением автобиографическим — впрочем, как и две предыдущие ее части: роман «Без дна» (Энигма, 2006) и роман «На пути» (Энигма, 2009). И все же главный герой этого романа, пожалуй, собор. Образ Шартрского собора (Нотр-Дам де Шартр) предстает совсем не в том привычно обывательском свете, в котором его пытаются представить туристические путеводители, — мистически настроенный автор видит в нем прежде всего воплощенное в камне Предание. Именно в этом смысле он и анализирует сакральную архитектонику, скульптуру и живопись храма, его эзотерическую эмблематику, запечатленную в розетках и витражах, погружается в детальную экзегезу этого монументального теологического Писания, возведенного на останках кельтского святилища, вникает в сокровенный смысл герметического бестиария, населяющего его карнизы: всех этих демонов, горгулий, грифонов, гарпий и химер.
Произведение насыщено экскурсами в историю монашества, многочисленными цитатами из трудов Отцов Церкви и средневековых хронистов, размышлениями о католической литургике и символизме храмового искусства. Представленная в романе широкая панорама христианской мистики и различных религиозных течений потребовала обстоятельных комментариев, при составлении которых редакция решила не ограничиваться сухими лапидарными сведениями о тех или иных исторических лицах, а отдать предпочтение миниатюрным, подчас почти художественным агиографическим статьям.
«Самым замечательным документом жизни религиозной души во Франции я считаю произведение Гюисманса, этого героя и мученика декадентства, бесконечно чуждого современной пошлости. Гюисманс интереснее и глубже “модернистов”, — писал Н. Бердяев. — Никто еще не проникал так в литургические красоты католичества, не истолковывал так готики. Одно это делает Гюисманса большим писателем».
Собор - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В общем, внимательно изучая систему эмблем, мы не можем не исследовать явления чисел; невозможно раскрыть секреты храмов, не принимая во внимание, что таинственная сущность единицы — единство и Сам Бог, что двойка указывает на две природы Сына, два Завета, а кроме того, по Блаженному Августину, выражает любовь, а по Григорию Великому — двойную заповедь любви к Богу и к ближнему; тройка — число божественных ипостасей и богословских добродетелей; четверка олицетворяет главные добродетели, четырех великих пророков и Евангелия; пятерка — число ран Христа и наших чувств, прегрешения которых Он искупил равным количеством язв; шестерка напоминает о времени сотворения мира Богом, определяет число заповедей церковных и, по святому Мелитону, выявляет совершенство деятельной жизни; семерка — священное число Моисеева закона; это число даров Святого Духа, таинств, слов Спасителя на кресте, канонических часов и возложений рук на посвящаемого при хиротонии; восьмерка — по святому Амвросию символ возрождения, по Августину — воскресения, это же память и о восьми блаженствах; девятка говорит о числе чинов ангельских, количестве особых дарований Духа по исчислению апостола Павла, а также цифра часов, на протяжении которых испускал дух Иисус Христос; десятка дает число заповедей Иеговы, Закона страха, но Блаженный Августин разъясняет десятку иначе, говоря, что она есть свидетельство богопознания, поскольку раскладывается таким образом: три — символ Бога в трех лицах, семь — день отдыха после сотворения мира; одиннадцать, по свидетельству того же святого есть образ превосхождения Закона, щит от греха; двенадцать — число мистическое по преимуществу, число патриархов и апостолов, колен Израилевых, малых пророков, добродетелей, плодов Святого Духа, членов Символа Веры. И так можно было бы продолжать до бесконечности. Стало быть, совершенно очевидно, что в Средние века художники к смыслу, который они приписывали некоторым существам и вещам, прибавляли еще смысл их количества; тем самым они подчеркивали или затушевывали первоначальное значение, а иногда возвращались к основной идее, высказывали ее повторно на другом языке или выражали одним кратким сильным знаком. Так у них получалось целое, красноречивое для зрения и в то же время синтезирующее в простой аллегории все содержание догматики.
— Да, но как же лаконичен этот герметизм! — воскликнул Дюрталь.
— Бесспорно; хотя с первого взгляда беспорядочное множество людей и предметов сбивает с толку.
— А не полагаете ли вы, что, вообще говоря, высота, длина и ширина собора также выражает особое намерение, некую специальную цель зодчего?
— Да, но тут же соглашусь и с тем, что ключ к этой духовной арифметике утерян. Сколько археологи, усердно пытавшиеся его найти, ни складывали метры нефов и пролетов, им так и не удалось дать нам ясно понять, какую идею они ожидали бы обрести в результате этих вычислений.
Надо признаться, в этом предмете мы полные невежды. Да ведь и система мер сильно менялась с течением времени. Тут все примерно так же, как и с ценностью средневековых денег: мы в этом ничего не можем разобрать. Итак, хотя в этой области интересные работы проводили аббат Кронье в связи с приоратом Сен-Жиль и аббат Девуку в связи с отёнским собором, я по-прежнему отношусь к их выводам скептически; по-моему, они очень изобретательны, но не слишком надежны.
Нумерологическая метода превосходно себя показывает лишь в отношении подробностей, например столпов, о которых я говорил вам только что; она применима также, когда речь идет об одном числе, постоянно повторяющемся во всем здании: скажем, в Паре-ле-Моньяль все выстроено тройками. Там зодчий не просто воспроизвел священное число в общем плане церкви, но и применил его в каждой из частей. В храме три нефа, в каждом нефе три пролета, каждый пролет образован аркадой из трех арок и имеет три окна. Короче, здесь троическое начало, напоминание о Святой Троице проведено последовательно от начала до конца.
— Превосходно, но не полагаете ли вы, господин аббат, что помимо таких бесспорно ясных случаев в символике встречаются и очень темные, притянутые за уши объяснения?
Аббат улыбнулся:
— Знакомы ли вам мысли Гонория Августодунского {19} о кадиле?
— Нет.
— Вот они. Вначале он вполне справедливо определяет натуральный смысл этого сосуда, изображающего Тело Христово, ладан же — Божество, огнь, Духа Святого, в нем пребывающего, а затем говорит о различных применениях к металлам, из которых он делается. Он учит, что когда кадило золотое, то это означает совершенство Божества в Христе, когда серебряное — несравненную святость Его смирения, медное — уязвимость Его плоти, сотворенной нашего ради спасения, железное — воскресение плоти, победившее смерть.
А далее он переходит к цепочкам, и тут его символика действительно становится несколько слабоватой и натянутой. Если кадило о четырех цепочках, пишет он, они указывают на четыре основных добродетели Господа, а та, которой приоткрывают крышку сосуда, обозначает душу Христа, разлучающуюся с телом.
Если же кадило подвешено на трех цепочках, то потому, что Личность Христова состоит из трех элементов: человеческого организма, души и Божества Слова, кольцо же, к которому крепится цепочка, заключает Гонорий, — Вечность, заключающая в себе все это.
— Ну и путаница!
— Еще не такая, как теория Дуранда Мендского о нагарных щипцах; расскажу вам о ней и, с вашего позволения, на том остановимся.
Он утверждает: щипцы, чтобы снимать нагар с паникадил, суть «божественные словеса, которыми мы обрезаем буквы Закона и тем открываем блистающий разум»; и далее: «ведерки, в которых гасят свещные огарки, суть сердца верующих, буквально соблюдающих заповеди».
— Это уже не символизм, а безумие!
— По крайней мере, мелочность, дошедшая до крайности; но хотя так толковать щипцы по меньшей мере странно, а теория кадила в целом может показаться довольно зыбкой, признайте все же, что она непринужденна и очаровательна, да и образно точна, когда богослов говорит о цепочке, поднимающей крышку с кадильницы, выпуская облачко дыма и тем подражая вознесению Господа на облаках.
Трудно было, чтобы не случилось некоторых преувеличений на пути иносказаний, но… но зато о каких чудесах аналогий, о каких чисто мистических понятиях говорят смыслы, приданные в литургическом обиходе некоторым из священных предметов!
Вот, послушайте, свеча… Петр Эсквилинский объясняет нам значение трех ее составных частей: воск — пречистое Тело Христово, рожденное от Девы; фитиль, закатанный в этот воск — пресвятая Душа Его, скрытая под завесой тела, свет же — эмблема Его Божества.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: