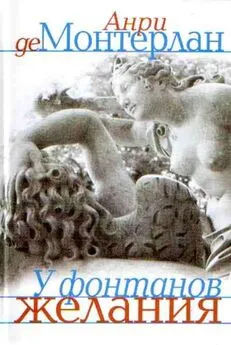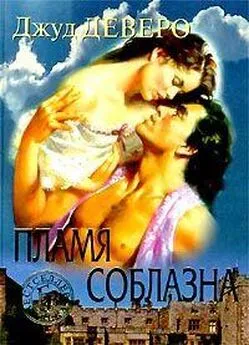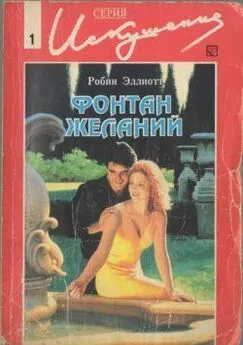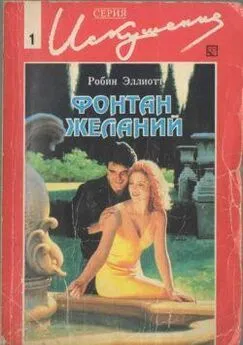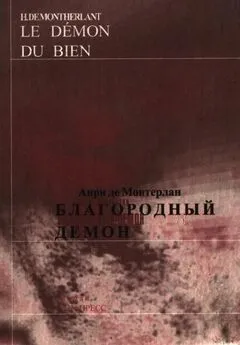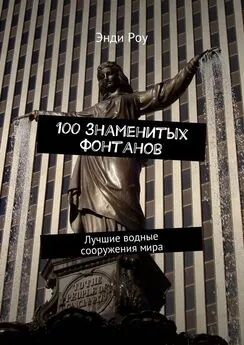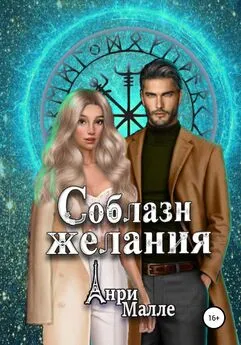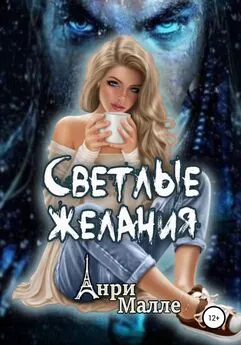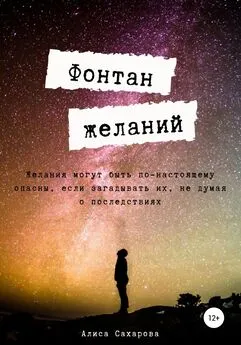Анри Монтерлан - У фонтанов желания
- Название:У фонтанов желания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Б.С.Г.-Пресс
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-93381-207-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анри Монтерлан - У фонтанов желания краткое содержание
Крупнейший прозаик первой половины XX века Анри де Монтерлан создавал книгу эссе «У фонтанов желания» в то время, которое сам он называл «годами бродяжничества». Писатель отмечал, что тогда он пережил подлинный перелом. Дерзновенный мыслитель, Монтерлан выносит на суд читателей своеобразные, порой парадоксальные рассуждения о краеугольных проблемах бытия. Автор отходит от «чисто мужской» манеры письма, отличающейся, по его мнению, определенной однобокостью, допуская в свою прозу элемент «женской чувствительности».
У фонтанов желания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Перегрин вдобавок еще дождался восхода луны, как будто природа тоже должна была разглядеть его подвиг во всех подробностях. В сопровождении учеников, несущих факелы, он приближается к костру, вокруг которого собралась громадная толпа. Каждый своим факелом поджигает костер, и он разгорается со всех сторон сразу. Перегрин кидает в костер несколько зернышек ладана, препоручает себя своим гениям, бросается в пламя и исчезает.
После окончания этой шутки (именно такое определение мы у него находим: шутка) Лукиан возвращается домой и снова ложится в постель, потешаясь и ругая себя последними словами: нечего было таскаться смотреть, как зажаривается старикашка, и при этом нюхать скверный запах . Когда Христос умер на кресте, сотник сказал: истинно человек этот был праведник. Но сотники относились к низам общества и не обладали буржуазным мировоззрением.
На обратном пути Лукиан, желая посмеяться над прохожими, рассказывал им, что в мгновение, когда Протей исчез в пламени, земля содрогнулась, и послышался глухой гул, что из середины костра вылетел коршун, и так далее, и тому подобное. Полчаса спустя некий почтенный старец, уже успевший услышать эту новость, клятвенно утверждал, будто видел этого коршуна своими глазами. Более того, на дороге ему встретился сам Протей, в белых одеждах и с оливковым венком на голове. Земля содрогается! Казненный воскресает! Наши рационалисты, наверно, сдерживают улыбку. Они довольны: им удалось застать врасплох рождение чуда.
II
Если Геракл решается взойти на костер, он делает это, чтобы избавиться от пропитанной ядом туники кентавра Несса. Христианин спешит принять мученическую смерть, ибо для него это залог спасения души; подобно фениксу, он восстанет из пепла и воссияет краше прежнего. Брамин любит смерть возвышенной любовью. Но у Перегрина не было ни одного из этих мотивов. Очень важный момент, давайте его запомним.
Ему не от чего бежать, он знает, что жизнь еще может подарить ему кое-какие радости. Его биограф рассказывает, что незадолго до смерти он плавал по Эгейскому морю в обществе юноши, весьма пригожего лицом, «чтобы тоже иметь при себе кого-нибудь в роли Алкивиада». Спасение души? Об этом, понятно, не могло быть и речи; христианство для него было ничем иным, кроме как средством преуспеть. Любовь к смерти? Вот уж нет! Мы пять раз видели, как он гнал ее от себя. Однажды, чтобы спастись от разъяренной черни, он отдает ей свое имущество. В другой раз, когда его хотят побить камнями, он ищет прибежища у алтаря Зевса. В третий раз, в море, во время разыгравшейся бури, он хнычет от страха. А еще раз, за одиннадцать дней до самосожжения, он, охваченный лихорадкой, просит у врача лекарство. И наконец, уже перед тем как взойти на костер, он, похоже, собрался улизнуть. По утверждению Лукиана, когда ему крикнули: «Иди же! Чего ты ждешь?», он «побледнел, задрожал и умолк». Таким образом, единственная цель, ради коей он выбирает добровольную смерть, это оставить по себе долгую память, чего он не смог добиться — и сам это знает — всей своей жизнью. Пусть он и не высказался по сему поводу с полной определенностью, с нас будет довольно слов, которые он сказал врачу при уже упомянутых нами обстоятельствах. Врач не хотел давать ему лекарства: раз уж смерть стучится в твою дверь, говорил он, не сопротивляйся ей — и тебе не придется складывать костер. Перегрин ответил, что отвергает смерть, которая не принесет ему чести.
«Мне уже стукнуло шестьдесят, — размышляет Перегрин. — Я приобрел известность, но не славу. И теперь уже слишком поздно.
Не то несправедливо, что меня недооценили, — знаю, в моей жизни многое вызывает нарекания, — а то, что других, которые не стоят меня, оценили так высоко. Что другим сходит с рук, более того, вызывает всеобщее восхищение, мне ставят в вину. Все, что я делал (а Богу ведомо, что я развивал деятельность по самым различным направлениям!), обернулось против меня. И с какой изощренностью! Поистине, злоба — это женщина.
Сокровища моего ума они обозвали мешаниной, мою гордость — пустым тщеславием, мое величие — напыщенностью, мою добродетель — черствостью, красноречие — риторикой, глубину — невнятностью, верность — глупостью, прямоту — бесстыдством; а если для какого-либо из моих свойств они не могли подобрать бранное слово, то заявляли, что это — позерство. Как я мог ответить на эти нападки? Хорошо торговцам шпильками: они могут хоть шпильку подпустить! А мне ответить было нечем. Общественное мнение воздвиглось вокруг меня, словно глухая стена, я скован им, не могу двинуться, будто на мне — цепи. И это мнение гласит: ничто, исходящее от меня, не стоит принимать всерьез.
Короче говоря, все кругом — свиньи. (Разумеется, кроме тех, кто мной восхищается. Впрочем, они восхищаются мной всегда некстати, так что раздражают меня не меньше, чем остальные).
А потому — подите прочь от меня с вашими заманчивыми побрякушками! Я слишком чист!.. и т. п. Мне совесть не велит!.. и т. п. Я раз десять отказывался от ордена Почетного Легиона. То есть я отказывался от мысли о нем. Вообще-то мне его не предлагали, потому что на меня заведено досье в полиции нравов».
Среди таких горестных раздумий лучшим утешением для нашего философа оказался романтизм (уже тогда этому направлению было не счесть сколько лет, ибо родилось оно при Адаме и Еве). Как положено романтику, он горделиво выставлял напоказ позор и одиночество, ставшие его уделом, — в действительности, или только в воображении, — непомерно преувеличивая эту беду, так что в итоге почувствовал себя ничуть не хуже, чем если бы пользовался всеобщим признанием. Романтизму, помогающему нам находить удовлетворение даже в самых тяжелых ситуациях (к несчастью, он бессилен против мелких неприятностей, которые по этой причине оказываются самыми болезненными), давно следовало бы поставить памятник. Однако в те часы, когда воодушевление спадало, меланхолия начинала терзать Перегрина с еще большей силой.
И вот однажды его осенило. Слишком поздно? Нет, еще не поздно! Если жизнь не удалась, смерть может стать удачей. Ум и добродетель — свойства, которые можно оспаривать до бесконечности. Но кто не склонит голову перед человеком, решившимся умереть за идею? Один-единственный поступок — и ты будешь прав навсегда. Ах, как все вдруг может стать легким! Я думаю о молодом солдате нестроевой службы, который в 1916 году подал рапорт о переводе в действующую армию: «Пусть меня направят куда угодно, даже туда, где от меня не будет никакой пользы, лишь бы я мог там рискнуть жизнью». Сколько молодых жизней было так щедро, так бесполезно растрачено в дни войны, потому что люди думали, будто смерть может принести вам славу вернее, чем любой талант, и потому что каждый тогда страстно мечтал добиться уважения! Но жизнь не соглашается с тем, что смерть вправе избавить нас от обязанности жить, и сегодняшнее общественное мнение почти кощунственно называет дураками учеников Сен-Сира, ушедших на фронт в белых перчатках.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: