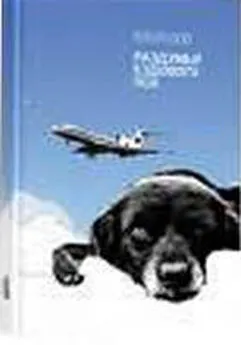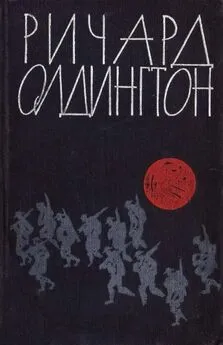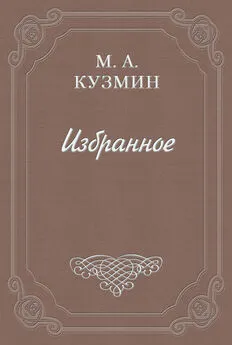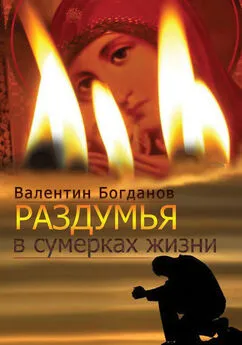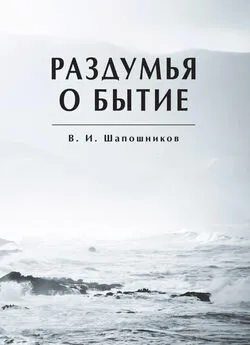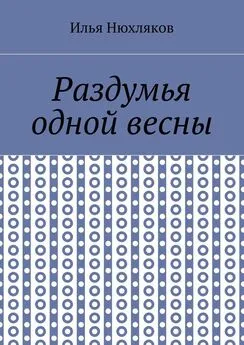В. Белов - РАЗДУМЬЯ НА РОДИНЕ
- Название:РАЗДУМЬЯ НА РОДИНЕ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
В. Белов - РАЗДУМЬЯ НА РОДИНЕ краткое содержание
В новой книге лауреата Государственной премии СССР Василия Белова представлена его публицистика. В ней, как и в художественном творчестве писателя, главное — это радение о слаженной, гармоничной жизни человека на родной земле. Некоторые статьи посвящены размышлениям об отечественной культуре и искусстве; в них утверждаются реалистические традиции.
Несомненный интерес для читателя представляют документальная повесть «Раздумья на родине» — рассказ о судьбе родной писателю деревни Тимонихи Вологодской области и очерк «Дважды в году — весна» о поездке писателя в Италию.
РАЗДУМЬЯ НА РОДИНЕ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ермошиха крестилась лишь во время грозы, когда сильно вспыхивала молния и от грома звякали стекла. Она умерла, когда я мотался по великой российской земле, умерла, видимо так и не заметив подвоха, мадонна висела в углу по-прежнему. На меня глядели широко открытые, печально-радостные глаза, они глядели с легким оттенком игривого недоумения. Что выражали эти глаза? Целомудренность материнства? Радость человеческого бытия? Удивление перед светлым, широким, теплым миром? Это, наверное, как раз тот случай, когда определение невозможно, а все понятно. Ничего не ведающий младенец с пухлыми щеками, кажется, вот-вот пустит губами пузырь. Кажется, услышишь сейчас, как сопит носом умудренный жизнью старик, увидишь, как поднимет ресницы женщина справа, словно стыдящаяся ожидания собственного материнства.
Часы тикали, мама разговаривала с Людмилой, а я, приглушая какое-то неловкое чувство, все глядел на рафаэлевскую мадонну.
Однако надо жить, коль приехали, надо греть самовар. Хватаю ведра и босиком бегу на речку.
Туча ушла, ее уже не слыхать, и солнце, скатываясь к горизонту, опять шпарит напропалую. Ах, какие нынче вымахали травы… Розовый клевер тёпел, мягок, душист, а густой пырей у тропки выше моего пояса. В полную силу цветет солнцеликая ромашка. Весь деревенский угор, до самой речки, усыпан полевыми цветами: небесные васильки, бордовые колокольчики, желтые петушки, чего только не наросло в травяном царстве!
Пока шумит у шестка самовар, обхожу нашу старинную хоромину. Собственно, детство мое прошло не в этом доме, он не отцовский. Отцовский же дом продан, этот дом остался нам от бабки Ермошихи. Он, как и большинство старинных северных домов, велик и обширен: пятистенок с шестью окнами по фасаду, с подвалом и с несколькими хлевами и сенниками, с въездом и сенными перевалами. По подсчетам старожилов, дом был срублен еще до реформы 1861 года, то есть стоит на земле второе столетие. Только заменена крыша над жилой частью, отломана зимняя изба и поветшала, покосилась задняя часть со всеми хлевами и сенниками. Передняя же часть, рубленная из сосновых кряжей, при желании хозяев, возможно, одолела бы еще одно столетие…
Несколько поколений людей родилось и умерло под этими кремневыми матицами. Об этих поколениях я кое-что знаю, пусть из вторых уст, но вот что было до них — ничего мне не известно. По-видимому, потомки новгородских ушкуйников разжились по здешним лесам, расселились по озерам и речкам, которые и по сей день текут в лощинах, вырытых ледниками. Скупая эта земля, пропитанная потом моих предков, понемногу утрачивала новгородское буйство. Мужики жили хоть и бедно, да вольно: жгли подсеки, пороли медведей, сеяли на гарях лен, ячмень и молились Николе. Тогда еще не свернулась в жилах вольнолюбивая кровь: «в смутное время» ватажка голодных иноземцев, дошедшая сюда, погибла под топорами и кольями. Разбойники успели спалить церковь и разорить Тимониху, Вахруниху и еще многие деревни. Тяжел на подъем русский человек! И что говорить о крохотной деревушке, когда и сама Вологда — ровесница Москвы — проспала и была за одну ночь сожжена и разграблена. Вот что писал по этому случаю московским боярам архиепископ Сильверст: «…И ныне, господа, город Вологда зженое место, окрепиты для насады и снаряд прибрать некому, а которые вологжане жилецкие люди утеклецы, в город сходиться не смеют, а воевода Григорей Образцов с Бслаозера с своим полком пришел и сел на Вологде, но никто не слушает, друг друга грабят… А все, господа, делалось хмелем: пропили город Вологду воеводы».
Тимониха, как, впрочем, и Вологда, отстроилась сразу же после разора, поскольку та же Писцовая книга повествует [2] Все архивные выписки любезно предоставили автору вологодский краевед Владимир Капитонович Панов — и сотрудник Вологодского краеведческого музея Николай Иванович Федышин.
:
«В Кумзерской же волости в Азлинском станку поместные земли. За Гаврилом Васильевым сыном Хлоповым в поместье… Деревня Тимониха на речке на Сохте. А в ней крестьян: во дворе Докучайко Павлов с сыном Моисейком, во дворе Малютка Павлов с сыном с Офонькою, во дворе бобыль Осипко Павлов з детьми с Якушкою да с Терешкою. Двор пуст, выморочной, Омелька Григорьева. Пашни паханые 20 чети, да перелогом 6 чети, да лесом поросло 4 чети. И всего худые земли 30 чети в поле, а в дву потому ж. Сена меж поль и по речке по Ухтюге и по Нижней Кизьме в кривизне 15 копен. Лесу пашенного 3 десятины, да непашенного 2 десятины. Да под тою ж деревнею толчея [3] Толчея — мельница.
. Один берег Ондрея Измайлова деревни Чичерихи, а другой берег Гаврила Хлопова деревни Тимонихи. А владеет тою толчеёю крестьянин Ондрея Измайлова… (неразборчиво. — В. Б.) Игнатьев».
После перечисления других деревень, принадлежавших Гаврилу Хлопову, говорится:
«А платить ему с того поместья в сошное письмо с трех чети пашни. А писано за ним то поместье по приправочным книгам дозора князь Тимофея Шеховского 123-го году [4] 1615 год.
, каковы даны писцом для приправки ис Поместного приказу за дьячьею приписью да по скаске сына ево Ивана Хлопова за ево Ивановою рукою какову положил у справки перед писцом человек ево Тренька Нестеров. А ввозные грамоты и отдельные выписи Гаврило Хлопов на то свое поместье у меры и у справки у книг к писцам не присылывал».
Не вдруг и сообразишь, что к чему! Бывал ли этот Гаврило в моей деревне и за что ему благословили Тимониху — неизвестно. Известно только, что Хлопов имел землю по жеребью в деревнях Острецовской и Межуречье, та же Острецовская без жеребья числилась «за Ондреем Измайловым». Остальные деревни в наших краях были то «за князем Микитою княж Ивановым сыном Черкасским», то «за смолиянином за Павлом Ивановым сыном Алтуфьевым». А вот деревня «Шемяково Деруниха тож на реке на Вондаше» (ныне колхоз «Большевик») была «за путным ключником за Иваном Алексеевым сыном Пузыревым в поместье, что было за Иваном Хрипковым а прежнево было за Ондреем Кобылиным». Другие селенья записаны то «за Вьялицею Кузьминым сыном Потемкиным», то «за иноземцем Елисеем Фозбрилковым». По-видимому, поместья то и дело переходили из рук в руки. Так, деревня Горка на реке Кизьме, как сообщает писец, была «за Иваном Кобыльским в вотчине по купчей Аптекарские палаты Вьялицы Потемкина 139-го году [5] 1631 год.
, а Вьялице дана была та вотчина из ево ж поместья за московское осадное сиденье королевичева приходу 127-го году [6] 1619 год.
».
Интервал:
Закладка: