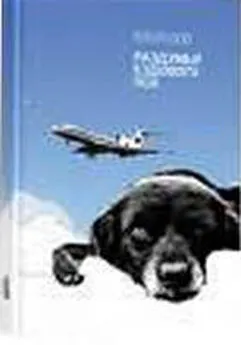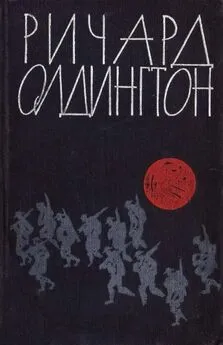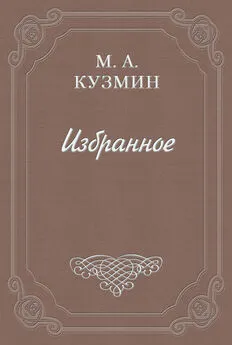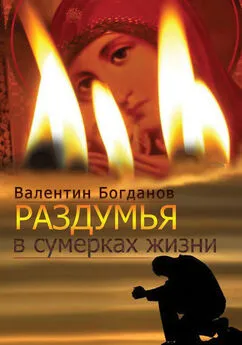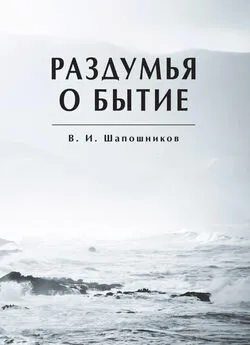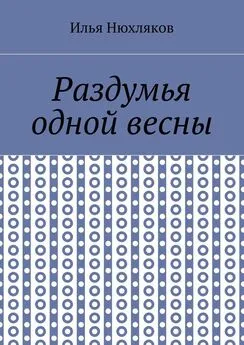В. Белов - РАЗДУМЬЯ НА РОДИНЕ
- Название:РАЗДУМЬЯ НА РОДИНЕ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
В. Белов - РАЗДУМЬЯ НА РОДИНЕ краткое содержание
В новой книге лауреата Государственной премии СССР Василия Белова представлена его публицистика. В ней, как и в художественном творчестве писателя, главное — это радение о слаженной, гармоничной жизни человека на родной земле. Некоторые статьи посвящены размышлениям об отечественной культуре и искусстве; в них утверждаются реалистические традиции.
Несомненный интерес для читателя представляют документальная повесть «Раздумья на родине» — рассказ о судьбе родной писателю деревни Тимонихи Вологодской области и очерк «Дважды в году — весна» о поездке писателя в Италию.
РАЗДУМЬЯ НА РОДИНЕ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
* * *
«Главная мысль» — говорится про сюжет в словаре иностранных слов, изданном в середине прошлого века.
Так по-разному, но всегда неопределенно поясняется это слово в разных местах. В самой-то жизни сюжеты всегда определенны и, кажется, никогда не повторяются. Там-то они постоянно новые… Ю. Квасов, журналист из города Соликамска, прислал мне несколько превосходных сюжетов. Вот дословно одна из страниц его письма: «Рассказывал дед, как до революции ехали всей семьей в Сибирь. В Зауралье пришлось ночевать в одном доме. Кроме хозяина в избе никого не было. Он всех ночлежников поместил на полатях. Сам достал нож, добавил в лампе огня и стал точить. На полатях оробели. Заснем, мол, а он всех порежет. И пока хозяин точил нож, никто не мог уснуть. Точил он долго и упорно. И только в час ночи он побрился, обрезал себе ногти на руках и ногах, задул лампу и лег спать. Вроде и успокоились, но взрослые не уснули до утра. А утром хозяин принес моченую бруснику, но есть не стали — посчитали за волчью ягоду».
Да, это был сюжет, в его чистом виде. Мой корреспондент не ошибся. Другие его сюжеты нисколько не уступали этому. Но я вновь задаю себе вопрос: «Так что же такое сюжет?» Ведь десять приведенных здесь строчек легко можно расширить до десяти страниц. Получится рассказ. А не ленивый и достаточно опытный писатель накатает и асе двадцать пять страниц, печатный, лист с хвостиком. Так что же для меня — читателя будет лучше, двадцать пять страниц писателя или десять строчек Ю. Квасова? Тут надо думать и думать…
Примерно в то же время я работал над книгой очерков «Лад». В одном из его разделов есть главка о мужиках — копателях колодцев. Выкопав колодец, который оказался сухим, они тайно, не получив расчет, ушли из деревни. Было очень заманчиво снабдить сюжетом каждую главку хотя бы одного этого раздела. В сюжетах о плотниках, лодочниках, торговцах, нищих, пчеловодах, мельниках и т. д. нужды у меня не было. Но почему-то мне пришлось от них отказаться.
По-видимому, жанровая принадлежность задуманной книги диктует автору и способы распорядиться сюжетами. Письмо из Соликамска заканчивалось так: «Да и вообще, Василий Иванович, от любого сюжета у любого писателя появляются свои мысли».
Что верно, то верно. Мой земляк Иван Афанасьевич Неуступов (ныне покойный) рассказывал мне, как до революции пороли одного мужика за пьянство. Начальство приехало. Собрали сельский сход. Решили: «Дать ему пятнадцать горячих!» Староста принес виц — ивовых прутьев. Мужика в земскую избу на скамью. «Я тебя хлестну, — староста говорит, — а хлестну-то не шибко. А ты шибче кричи». Так и сделали. Крик слышали даже на улице. Пристав заходит в избу: «Хватит, хватит ему! Довольно». Только после этого рассказа мне стали понятны слова гениального автора «Мертвых душ»: «Вынувши из кармана табакерку, ты потчеваешь дружелюбно каких-то двух инвалидов, набивающих на тебя колодки». Рисунок художника Лаптева, изображающий эту сцену, просто великолепен. Представим теперь, как по-разному написали бы на сюжет Ивана Афанасьевича такие, например, писатели, как А. Иванов и В. Распутин, оба, кстати, сибиряки.
Но, может быть, существуют в жизни сюжеты, различным толкованиям неподвластные?
В той же книге очерков я упоминал о рукописи пословиц, написанной еще при живом Пушкине. Рукопись, оказывается, побывала в руках одного известного московского писателя. Но, видимо, не заинтересовала его. Хозяйка ее Зинаида Ивановна Казакова сообщила:
«Тетрадь найдена в доме д. Савинской, Тигинской волости Вожегодского района Фокиной Евдокии Александровны, вдовы после, русско-японской войны — Евдокия Александровна рассказала мне, а ей поведала эту историю бабушка свекрови. У мужа Евдокии Александровны был прапрадядя Рокин. Он служил в Питере двадцать пять лет, был денщиком у генерала. Отслужился, пришел в Тигину. Земли нет, семьей не обзавелся. А муж и деверь Евдокии Александровны говорили свысока, были «фартовые», видно уж порода такая. Ну и солдат такой. Генеральша его полюбила. После смерти генерала приехала в Тигину. А солдат уже похоронен. Стала она жить у одних хозяев. Развела кошек. Однажды кошка напачкала в сеяльницу. Вызвали священника Измайлова — фамилия Измайловых возглавляла Никольскую церковь триста лет. Он молебен с водосвятием отслужил, отругал хозяев, что летом, мол, надо работать, а не водосвятие делать. Генеральшу велел прогнать. И повезли ее на телеге в г. Кириллов. Тетрадка от генерала осталась. Евдокия Александровна говорила мне: «Возьми, к вам много хороших людей ездит, может быть, кто и прихитит, а потом и к делу притулит». Через год тетрадь мне передала ее дочь, моя сверстница. Я очень рада, что желание Евдокии Александровны исполнилось — тетрадь прихичена и притулена к делу. Я старая, мне восемьдесят один год, и полуслепая, уж извините такое многословие. А будете в Москве, заезжайте ко мне на 16-ю Парковую…»
Зинаида Ивановна извинялась за многословие… Между тем в свои восемьдесят с лишним лет она сумела на одной странице рассказать интересную историю генеральской рукописи. Уверен, что ей помогло в этом чувство сюжета. Ясно, что если б известный писатель заинтересовался этой историей, он рассказал бы ее совсем по-другому, он наверняка расставил бы эмоциональные ударения. И все это было бы интересно. Но мне, человеку искушенному в писательстве, интересен больше рассказ Зинаиды Ивановны — беспристрастный, объективный и краткий. Даже в эпизоде с кошкой и сеяльницей она сумела удержаться от всяких оценок… Может быть, это и есть главный признак в определении сюжета?
Тот же Иван Афанасьевич Неуступов рассказывал мне, как, будучи молодым парнем, возвращался из бурлацкой поездки, куда подавался из-за ссоры с отцом. Около волостного правления шли торги. Продавали имущество, описанное за недоимки. И вдруг он увидел, что продают их корову. При третьем ударе молотка он повысил цену. И… пришел домой вместе с коровой. Отец будто бы упал к нему в ноги. Не помню кто рассказывал мне другой случай, связанный с Кумзерской ярмаркой. Бедный и деликатный мужик приехал продавать жеребенка. На ночлеге знакомая старушка, дальняя родственница, попросила его взять на хранение несколько ценных бумаг. На время, пока она ездит в гости. Он согласился. Старушка съездила в гости, ждет — пождет, а мужика нет. Неделю его нет, месяц. Старушка решила, что сама виновата… И вдруг однажды у крыльца останавливаются дрожки. Мужик, одетый как богатый купец, кинулся ей в ноги: «Прости Христа ради!» Он вернул ей облигации в тройном размере.
Обе истории, как видим, заканчиваются одинаково: земным поклоном, неутоленной жаждой прощения и самим прощением. Ни та, ни другая не могли бы произойти ни с немцем, ни с англичанином. В устных народных сюжетах всегда присутствовал элемент некоторой сентиментальности. Мешало ли это главному значению подобных сюжетов, заложенной в них нравственной назидательности? Мне представляется, что нет, не мешало. Конечно, при определенном желании и подготовке оба случая можно истолковать в любом и даже противоположном смысле. Например, старушку изобразить растяпой, а мужичка — проходимцем. Народная фантазия и молва всегда отдавали предпочтение первому, а не второму способу изображения событий. Документальная верность при этом была вовсе не обязательной. Но, как я уже говорил, относительно многообразия сюжетов сама жизнь успешно соперничает с народной и писательской фантазией. Остаются втуне если не тысячи, то сотни, я бы сказал, первоочередных сюжетов, они прямо-таки валяются под ногами наших писателей и жанровых живописцев. А жизнь следует дальше, она уносит в прошлое эти сюжеты. О моей родине писал когда-то хороший писатель Александр Тарасов. (Он погиб на войне.) Это был действительно хороший писатель. Но сейчас сюжеты его рассказов и повестей меня, читателя, не устраивают, он писал свои произведения не по главным, а по второстепенным сюжетам (я мог бы это легко доказать, сравнивая тарасов-ские сюжеты с теми, которые преобладали в 20-х годах на моей родине — в Харовском и Вожегодском районах нашей области). И самое интересное то, что писатель-то не виноват, у него не было ни временных, ни общественных возможностей, чтобы воплотить в своих произведениях то, о чем теперь мне, читателю, прочесть было бы просто необходимо. И тем не менее ничто в народной жизни не проходит бесследно — ни хорошее, ни плохое.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: