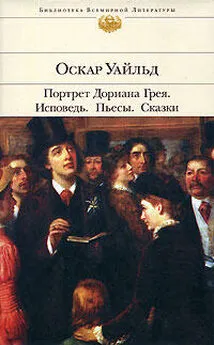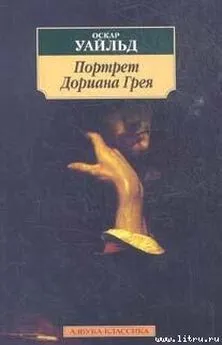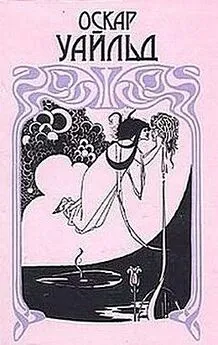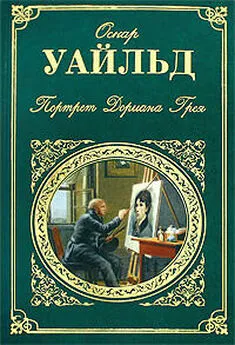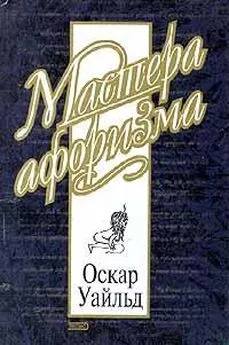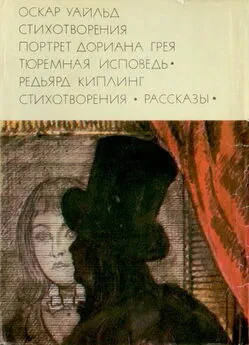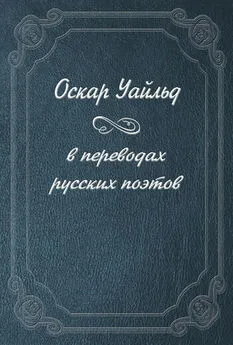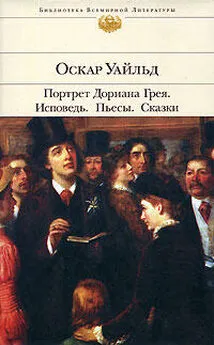Оскар Уайльд - Исповедь: De Profundis
- Название:Исповедь: De Profundis
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-699-06568-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Оскар Уайльд - Исповедь: De Profundis краткое содержание
Исповедь: De Profundis - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
У нас в тюрьме лишь одно время года – время Скорби. Даже солнце, даже луну – и те у нас отняли. День снаружи может быть золотым и лазурным, но для того, кто сидит внутри под тусклым, крохотным, забранным решеткой окошком, он всегда сер и уныл.
В камере вечные сумерки – и вечный сумрак в сердце. В сфере мысли, как и в сфере времени, движение тоже застыло. Вот почему то, что давно уже забыто тобой или может легко быть забыто, происходит со мной до сих пор и будет снова происходить и завтра и послезавтра. Помни об этом, и тогда ты хоть отчасти поймешь, почему я пишу тебе вообще и подобным образом в частности.
Через неделю после ареста меня перевезли сюда. А еще через три месяца умерла моя мать. Никто лучше тебя не знает, как я любил и чтил ее. Ее смерть настолько ужаснула меня, что я, всегда умевший выразить любые оттенки мысли и чувства, не в состоянии был, да и сейчас не смогу, найти нужных слов, чтобы передать испытанные мною боль и чувство стыда. Никогда, даже в пору наивысшего расцвета моего писательского мастерства, я не сумел бы отыскать таких фраз, которые смогли бы вынести на себе страшное и в то же время величественное бремя постигшего меня горя; которые смогли бы с исполненной достоинства трагической торжественностью прошествовать под звуки траурной музыки сквозь сумрачные покои моей невыразимой скорби.
Мои мать и отец завещали мне высокое имя, оставившее заметный след не только в литературе, искусстве, археологии и науке, но и в истории народа моей родной Ирландии, в ее национальном становлении и развитии.
И как же я поступил с этим благородным именем? Навеки обесчестил его, превратил в символ низости в глазах низкого люда, вывалял в грязи, отдал глупцам на глумление, чтобы они сделали его синонимом глупости, позволил черни завладеть им, чтобы она очернила его.
Что мне пришлось тогда выстрадать и как я страдаю сейчас – этого и перо не опишет, и бумага не выдержит. Моя жена, проявлявшая ко мне в час постигшего меня горя максимум доброты и участия, проделала весь долгий путь из Генуи в Англию (хотя и чувствовала себя нездоровой) специально для того, чтобы я узнал об этой невосполнимой, невозвратной утрате именно от нее, а не из чьих-либо равнодушных или враждебных уст.
Свои соболезнования прислали мне все, кому я по-прежнему оставался дорог. Даже те, кто не знал меня лично, услышав, какое новое горе пришло в мою и без того разбитую жизнь, просили передать мне свое искреннее сочувствие. Ты один остался равнодушен, никаких соболезнований мне не передал, ничего мне не написал.
О такого рода поступках лучше всего можно сказать словами Вергилия, с которыми он обратился к Данте, когда они с ним проходили мимо тех, чья жизнь была лишена благородных порывов и высоких устремлений: «Non ragioniam di lor, ma guarda, e passa». [73]
Проходит еще три месяца. Из висящего снаружи на двери моей камеры календаря, где указаны мое имя, а также срок наказания и где регулярно отмечается мое поведение и выполненная за день работа, я узнаю, что на дворе уже май. Мои друзья снова навещают меня. Я, как всегда, расспрашиваю их о тебе. Мне отвечают, что ты сейчас на своей вилле в Неаполе и собираешься выпустить томик стихов. К концу разговора случайно выясняется, что ты решил посвятить стихи мне, и эта новость вызывает у меня какое-то гадливое чувство. Но я ничего им не говорю, а молча возвращаюсь в свою камеру, переполненный возмущением и презрением.
Как же ты мог додуматься посвятить мне книгу стихов, не испросив сначала моего разрешения? Как ты мог пойти на такое? Ты, конечно, скажешь в ответ, что в те дни, когда я был в зените славы и популярности, я, дескать, не возражал, чтобы ты посвятил мне свои первые опусы?
Да, действительно, не возражал, но должен тебе сказать, что я принял бы подобный знак уважения от любого юноши, вступающего на трудную и прекрасную стезю литературного творчества. Художнику всегда приятно принимать дань восхищения от почитателей – и уж вдвойне приятно от юности. Лавровые листья вянут, если собирают их увядшие руки. Только юность имеет право венчать художника лавровым венком. В этом и состоит основное преимущество молодости, хотя молодые этого не сознают.
Но дни унижения и бесчестья, как ты понимаешь, далеко не то же самое, что дни славы и популярности. Тебе на собственном опыте еще предстоит убедиться, что Благополучие, Наслаждение и Успех спечены из муки грубого помола и сшиты из сурового полотна, тогда как Горе и Скорбь хрупки и ранимы, как ничто другое на свете. На любое, даже самое легкое, самое неощутимое движение в материальном или идеальном мире Горе и Скорбь отвечают самым острым и болезненным образом. По сравнению с их мучительным трепетом дрожание тончайшего листика золота под воздействием невидимых глазу сил кажется несравненно более грубым.
Горе и Скорбь – это раны, кровоточащие от любого прикосновения, кроме легкого касания руки Любви, но даже и в этом случае кровотечение продолжается, хотя уже и без боли.
Если уж ты написал начальнику Уондсвортской тюрьмы, [74]испрашивая моего разрешения опубликовать мои письма в журнале «Mercure de France» («подобном», как ты ему обьяснил, «нашему английскому „Фортнайтли ревю“«), то почему же ты не обратился к начальнику Редингской тюрьмы, чтобы попросить через него моего согласия посвятить мне свои стихи, какими бы фантастическими причинами ты и ни обосновывал бы свою просьбу?
Не потому ли, что в первом случае речь шла о журнале, где я мог попросту запретить печатать свои письма, поскольку, как ты прекрасно знал, авторское право на них, а значит, и право давать разрешение на их перепечатку, всецело принадлежало (и принадлежит) одному только мне?
Ну а во втором случае ты так же прекрасно понимал, что свободен поступать, как тебе вздумается, и что я не узнаю о твоем самовольстве до тех пор, пока не будет уже слишком поздно помешать тебе. А ведь уже одно сознание, что меня обесчестили, растоптали, посадили в тюрьму, должно было заставить тебя, если уж тебе так хотелось поместить мое имя нa титульном листе твоей книги, просить у меня об этом как об огромной любезности, высочайшей чести и исключительной привилегии. Ибо только так следует обращаться к тем, кто повергнут в прах и бесчестье.
Место, где обитают Скорбь и Страдание, – священная земля. Когда-нибудь ты поймешь, что это значит. А если не поймешь, ты так ничего и не узнаешь о том, что такое жизнь. Робби и такие натуры, как он, способны это понять.
Когда я в сопровождении двух полицейских был доставлен из тюрьмы в Суд по делам о несостоятельности, меня в длинном, мрачном коридоре этого заведения ждал никто иной, как Робби, чтобы на глазах у всей толпы почтительно снять предо мною шляпу, когда я, в наручниках, с понуренной головой, проходил мимо него.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: