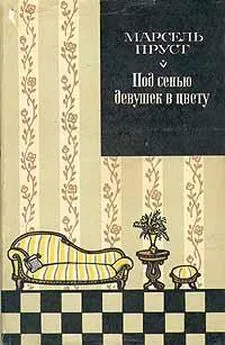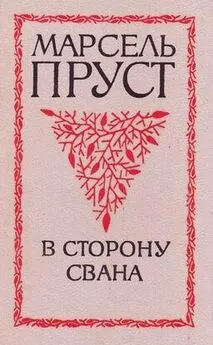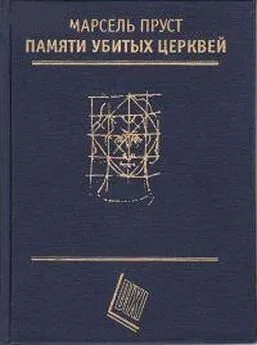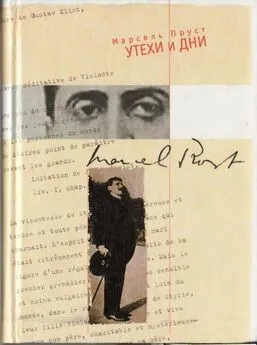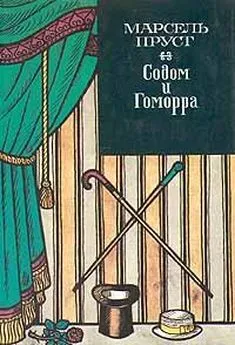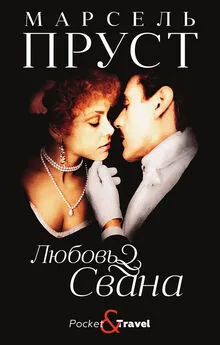Марсель Пруст - По направлению к Свану
- Название:По направлению к Свану
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЭКСМО
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-699-02169-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марсель Пруст - По направлению к Свану краткое содержание
Изысканный и причудливый мир прустовской прозы воссоздает бесконечно увлекательное и удивительно разнообразное движение человека в глубины своей внутренней вселенной. От строчки к строчке Марсель Пруст перебирает отзвуки бесед, дуновения ароматов, осыпающиеся лепестки воспоминаний и терпеливо выстраивает на этой основе величественное здание главного произведения своей жизни, известного под названием «В поисках утраченного времени». В основу этого воздушного храма красоты и переменчивой гармонии лег роман «По направлению к Свану» — первый шаг в мир, где прошлое и настоящее образуют сложный узор, следы которого с тех пор можно отыскать у самых разных «архитекторов» мировой литературы.
По направлению к Свану - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Тетя так и не поехала посмотреть изгородь из розового боярышника, но я поминутно спрашивал моих родных, поедет она или нет и часто ли она бывала раньше в Тансонвиле: этим я старался вызвать их на разговор о родителях и о дедушке и бабушке мадмуазель Сван, которых я себе представлял великими, как боги. Имя Свана стало для меня почти мифологическим, и когда я говорил с родными, я томился желанием услышать его из их уст; сам я не осмеливался произнести его, но я нарочно заводил разговор на темы, касавшиеся Жильберты и ее семьи, имевшие к ней прямое отношение, не отгонявшие меня прочь от нее: так, например, притворившись, будто я убежден, что должность дедушки до него занимал кто-то еще в нашей семье или же что изгородь из розового боярышника, которую хотелось посмотреть тете Леонии, находилась на общественной земле, я вынуждал отца поправлять меня, говорить как бы наперекор мне, как бы по своей доброй воле: «Да нет же, это была должность отца Свана, эта изгородь составляет часть парка Свана». Тут я переводил дух — так это имя давило на то место во мне, где оно было начертано навсегда, так оно душило меня, ибо в тот момент, когда я его слышал, оно казалось мне весомее всякого другого: оно утяжелялось всякий раз, как я, еще до этого разговора, мысленно произносил его. Оно доставляло мне наслаждение, которое я, преодолевая стыд, выпросил у родных, — наслаждение это было так велико, что, наверно, требовало от них крайних усилий, усилий не вознаграждавшихся, поскольку для них это не было наслаждением. И я из деликатности переводил разговор на другие темы. А еще из-за своей щепетильности. Когда родные произносили имя Сван, я вновь обретал в нем то обаяние, которое у меня было с ним связано. И тогда мне вдруг приходило в голову, что эти обольщенья возникают и перед моими родными, что родные становятся на мою точку зрения, что от них не укрылись мои мечты, что они мне их прощают, что они их разделяют, и я чувствовал себя таким несчастным, как если б я их сломил и развратил.
В тот год мои родители решили вернуться в Париж несколько раньше обычного и в день отъезда, утром, собрались повести меня к фотографу, но, прежде чем повести, завили мне волосы, в первый раз осторожно надели на меня шляпу и нарядили в бархатную курточку, а некоторое время спустя моя мать после долгих поисков наконец нашла меня плачущим на тропинке, идущей мимо Тансонвиля: я прощался с боярышником, обнимая колючие ветки, и, не испытывая ни малейшей благодарности к надоедливой руке, выпустившей мне на лоб кудряшки, я, как героиня трагедии — принцесса, которую давят ненужные украшения, топтал сорванные с головы папильотки и новую шляпу. Мои слезы не тронули мать, но она невольно вскрикнула при виде испорченной прически и разодранной куртки. Я не слышал, что она кричит. «Милые мои цветочки! — причитал я. — Это не вы меня огорчаете, не вы меня увозите. Вы — вы никогда не обижали меня! За это я всегда буду вас любить». И, вытирая слезы, я обещал им, что когда вырасту большой, то не буду вести глупый образ жизни, какой ведут другие, и, даже живя в Париже, весной, вместо того, чтобы ездить с визитами и слушать всякую чепуху, буду вырываться в окрестности, только чтобы взглянуть на первые цветы боярышника.
Выйдя в поля, мы уже не расставались с ними во все время прогулки по направлению к Мезеглизу. По ним бродягой-невидимкой беспрестанно пробегал ветер, который я считал добрым гением Комбре. Каждый год по приезде я непременно выходил из дому, и тут я чувствовал, что я действительно в Комбре: ветер обегал складки моего плаща и подгонял меня в спину. Если идти по направлению к Мезеглизу, по возвышенности, где на протяжении нескольких миль не встретишь ни одной неровности почвы, ветер всегда дует попутный. Я знал, что мадмуазель Сван часто ездила на несколько дней в Лан, и хотя до него было не близко, расстояние казалось не таким большим благодаря полному отсутствию препятствий, и когда, в жаркие дни, я видел, как ветер, прилетевший из чуть видных пределов, там, далеко-далеко, клонит к земле хлеба, разливается волной по всему неоглядному простору и, теплый, шуршащий, ложится меж эспарцетом и клевером у моих ног, то эта общая для нас обоих равнина, казалось, сближала, соединяла нас; я думал, что тот же самый ветер провеял мимо нее, что он принес мне от нее весточку, но только я не могу разобрать, о чем он шепчет, и я целовал его на лету. Слева было село Шампье (Campus Pagani [83], как объяснял священник). Справа, за хлебами, виднелись резные шпили сельского храма Андрея Первозванного-в-полях: то были два острых, чешуйчатых, ячеистых гильошированных, желтоватых, зернистых шпиля, похожих на колосья.
На равном расстоянии одна от другой яблони раскрывали широкие белые атласные лепестки, неподражаемо орнаментированные листьями, которые не спутаешь с листьями никакого другого фруктового дерева, или свешивали робкие букетики розовеющих бутонов. Идя именно по направлению к Мезеглизу, я впервые заметил круглую тень, которую бросают яблони на залитую солнцем землю, и призрачные шелковые золотистые нити, — закат наклонно прял их под листьями яблонь, а мой отец у меня на глазах пытался разорвать их тросточкой, но они оставались на прежнем месте.
Иной раз по полуденному небу украдкой, без всякой торжественности, белая, словно облачко, скользила луна: так незанятая в спектакле актриса, надев свое обиходное платье, нарочно тушуясь, чтобы не обращать на себя внимание, забегает на минутку в зрительный зал посмотреть на товарищей. Я любил отыскивать ее изображение на картинах и в книгах, но эти произведения, попадавшиеся мне, во всяком случае, до того, как Блок приучил мой глаз и мысль воспринимать более тонкую гармонию, резко отличались от тех, в которых луна показалась бы мне красивой сейчас и в которых я не узнал бы ее тогда. Это был, например, роман Сентина [84]или пейзаж Глейра [85], где она серебряным серпом отчетливо вырисовывается на небе, словом, одно из творений, которые были так же до наивности несовершенны, как мое тогдашнее художественное восприятие, и мое пристрастие к которым возмущало сестер бабушки. Они считали, что надо с детства воспитывать вкус на произведениях, которые по-настоящему начинаешь любить уже в зрелом возрасте. Вне всякого сомнения, они представляли себе художественные достоинства в виде материальных предметов, которые только слепой может не заметить, — медленное вызревание в твоем сердце соответствующих способностей здесь, мол, не обязательно.
Когда мы шли по направлению к Мезеглизу, то в Монжувене, на берегу большого пруда, у поросшего кустарником холма, нам виден был дом Вентейля. Мы здесь часто встречали его дочь — она мчалась в двуколке и сама правила. С некоторых пор она стала появляться вместе со своей старшей подругой, о которой в наших краях шла дурная слава и которая вдруг окончательно поселилась в Монжувене. Это вызвало толки: «Должно быть, бедняга Вентейль совсем ослеп, — он не обращает внимания на все, что про нее рассказывают, и позволяет дочери, — а ведь ее оскорбляет всякое „не к месту сказанное» слово, — жить под одной крышей с подобной женщиной! Он говорит, что она прекрасный человек, что у нее золотое сердце и что если б она развивала свои музыкальные способности, то из нее вышла бы выдающаяся пианистка. Он может быть уверен, что с его дочерью она занимается не музыкой». Вентейль утверждал, что именно музыкой; в самом деле, вот что замечательно: особа, находящаяся в телесной близости с другой, всегда вызывает восхищение у родственников этой последней душевными своими качествами. Плотская любовь, совершенно несправедливо очерненная, столь властно заставляет человека растрачивать весь имеющийся у него запас доброты и самоотверженности, что эти его свойства бросаются в глаза непосредственному его окружению. Доктор Перспье, которому густой бас и густые брови предоставляли возможность, сколько ему заблагорассудится, играть не подходившую к его внешним данным роль злоязычника, нимало не подрывая своей прочной и незаслуженной репутации добродушного ворчуна, умел насмешить до слез священника и кого угодно. «Так вот в чем дело, — грубым тоном говорил он. — Оказывается, она со своей подругой, мадмуазель Вентейль, занимается музыкой. Вы, я вижу, удивлены. Я-то ничего не знаю. Мне об этом сказал вчера сам папаша Вентейль. В конце концов, эта девица имеет полное право любить музыку. Я, например, против того, чтобы мешать развитию артистических способностей у детей. Вентейль, как видно, тоже. Да ведь он и сам занимается музыкой с подругой своей дочери. Не дом, а музыкальная школа, ей-Богу! Чего вы смеетесь? Я хочу только сказать, что они чересчур увлекаются музыкой. На днях я встретил папашу Вентейля около кладбища. Он еле брел».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: