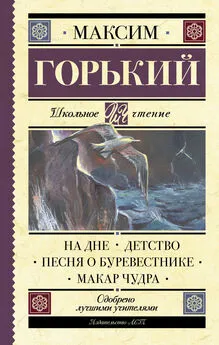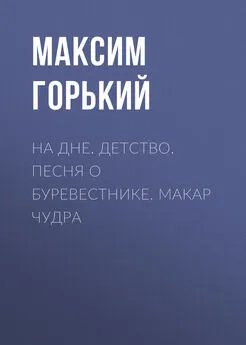Максим Горький - На дне. Избранное (сборник)
- Название:На дне. Избранное (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-699-07922-X
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Максим Горький - На дне. Избранное (сборник) краткое содержание
Максим Горький (псевдоним Алексея Максимовича Пешкова; 1868–1936) — едва ли не самый известный и вместе с тем самый «непрочитанный» писатель XX века. Его творческое наследие огромно и разнообразно. В этом томе, составленном на основе современных школьных программ по литературе, перед читателями предстанет разноликий Горький — не только автор самобытной прозы и драматург, но и поэт, а также публицист. Возможно, те, кто окончил школу в советские времена, уже вместе со своими детьми откроют для себя новый образ этого художника слова — способного не только вовремя выпустить пропагандистский роман «Мать», но и прозревавшего сокровенные тайны человеческой натуры и людского сообщества.
На дне. Избранное (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— Неужели совесть ваша не протестовала? — спросил я.
— О да, — вздохнув глубоко, ответил он. — Да, сначала — очень страшно, думаешь, что все догадываются, чувствуют. Потом — привыкаешь. Вы — что думаете? — шёпотом сказал Попов. — Ведь в охране тоже нелегко. И там нужен героизм, там тоже есть свои герои, конечно — есть! Если — борьба, так уж герои с обеих сторон.
И еще тише, жульнически добавил:
— Даже интересно там, может быть, интереснее, чем у нас. Ведь их меньше, нас — больше….
Я видел, что его страх умаляется, исчезает. Он рассказывал увлекаясь, очень живо, со множеством анекдотических подробностей и мелочей, порою даже смешных. Мне кажется, что я не один раз сдерживал желание улыбнуться, и я подумал, что этот теленок, превращенный в полицейскую собаку, мог бы писать интересные рассказы.
В его цинизме было что-то наивное, и эта наивность, помню, всего более ожесточала меня. Ожесточала и пугала. Я чувствовал себя очень странно — человеком, чужим самому себе. И вот наступил момент, когда я вдруг заторопился, сам себя подхлестывая на решение неожиданное.
— Ну, Попов, пишите записку: «В смерти моей прошу никого не винить».
Он скорее удивился, чем испугался, нахмурил брови, спросил:
— Как это? Зачем? Как это — смерть?
Я объяснил ему: если он не напишет записку — я его застрелю, а если напишет — пусть сам повесится, сейчас же, при мне. Первое, что он сказал в ответ, было неожиданно и нелепо:
— Самоубийство? Никто не поверит, что я кончил самоубийством, нет! Там сразу поймут, что меня убили. И конечно — вы! Вы. Кому же, кроме вас? Там ведь знают, что вы здесь — один почти… И — какое вы имеете право судить, казнить — один?
Потом он валялся на полу, хватая меня за ноги, плакал, визжал, и я должен был зажимать ладонью его противный, мокрый рот.
— Нет, — кричал он тихонько, умоляюще, — нет, судите меня! Надо судить, судить…
Возня эта продолжалась бесконечно долго, я ждал, что внизу услышат, придут. Но там всё веселее играла гармоника, всё яростнее кричали и топали.
Попов повесился на отдушнике печи. Я держал его руки, пока oн дрыгал ногами и громко выпускал кишечный газ.
Брошу писать. К черту всё! Зачем мне это нужно? К черту.
Нет, писание дело увлекающее. Пишешь — и как будто не один ты на земле, есть еще кто-то, кому ты дорог, пред кем ни в чем не виноват, кто хорошо понимает тебя, не обидно жалеет.
Пишешь — и сам себе кажешься умнее, лучше. Опьяняет это дело. Вот когда я чувствую Достоевского: это был писатель, наиболее глубоко опьянявшийся сам собою, бешеной, метельной, внеразумной игрою своего воображения, — игрою многих в себе одном.
Раньше я читал его с недоверием: выдумывает, стращает людей темнотою души человека затем, чтоб люди признали необходимость бога, чтоб покорно подчинились его непостижимым затеям, неведомой воле.
«Смирись, гордый человек!»
Если это смирение и нужно было Достоевскому, то — между прочим, а не прежде всего. Прежде же всего он был сам для себя — мин дин мин. Умел жечь себя, умел выжимать жгучий сок души своей весь, до последней капли. Неужели не было случаев, когда писатель умирал внезапно, за столом своим, над листом исписанной бумаги? По-моему — такие случаи должны быть. Выписал себя до конца, до последней искры жизни и — исчез. Жаль, что этим пьяным делом я не занимался раньше.
Ну, буду дальше писать о том, чего не понимаю. Я вышел за город, ночь была светлая, холодная, дорогу ограждали черные деревья. Сел под деревом, в тень, и так просидел до утра, до поры, пока вдали заскрипели телеги крестьян. Чувствовал я себя скверно, такая немая пустота в душе, безмыслие в голове, в теле вялая усталость. Ждал я, что в душе моей что-то вспыхнет, разгорится. Когда Попов умер — умерло и мое отвращение к нему. Кто-то подсказывал мне: ты убил человека. Но я понимал, что это исходит сверху, от ума, это не тревожило меня. Человек был предателем. И я не чувствовал себя преступником.
Но незаметно, откуда-то из глубины, вдруг встал предо мною тревожный вопрос: а почему, собственно, я заставил Попова удавиться так неожиданно для самого себя и так торопливо заставил, точно чего-то испугался, но — не в нем, а — в себе? Как будто я не преступника уничтожал, а свидетеля, опасного для меня, и не тем опасного, что он предатель, а с какой-то другой стороны опасного?
Вертелись в памяти его слова:
«Если — борьба, так уж герои с обеих сторон».
И вообще назойливо шептались его циничные мыслишки, так странно знакомые мне, как будто я их слышал давно и часто.
Мухами кружились вопросы: как же Попов держался с жандармами? Неужели он им тоже рассказывал анекдоты и стишками смешил? И, может быть, смеялся с ними надо мною? Но главное, что и смущало и тяготило меня, — это поспешность, необдуманность, с которой я заставил Попова удавиться.
В этом настроении отчужденности от самого себя и как бы в полусне меня арестовали следующей ночью.
Начальник охранного отделения Симонов сказал мне хриповатым баском и каким-то неестественным, обиженным тоном:
— Вот что, Каразин, хотя Попенко и предлагает никого не винить в его смерти, но умер он в таком растрепанном виде, а на кистях рук у него оказались такие пятна, что совершенно ясно: он повешен, а не сам повесился. В ночь его смерти вы сидели у него приблизительно до половины второго. Это — установлено. И это время вполне совпадает с моментом смерти Попенко. Далее: есть наука дактилоскопия, она, конечно, установит, что оттиски пальцев на стеклянной пепельнице принадлежат вам. Разумеется, я прекрасно понимаю, на чем вы поймали Попенко, да он и сам догадывался об этом.
Он был парень, полезный нам. Вам придется заплатить за его смерть тем же. Кроме того: есть мотивы для уголовного дела, — убийство из ревности. К этому делу, конечно, будет привлечена и Александра Варварина — понимаете?
Я слушал и молчал. Не скажу, чтоб всё это испугало меня, но угроза уголовщиной, разумеется, была неприятна. Саша, обвиняемая по делу убийства из ревности? Нет. Это так нелепо, что даже смешно.
А Симонов, стоя в облаках дыма, говорил деловито:
— Я предлагаю вам заменить Попенко. Если вы на это согласны, вы немедля укажете мне нескольких лиц, которых нам полезно ликвидировать. Тогда выйдет так, что Попенко выдал товарищей и повесился от угрызений совести, а вы сохраните жизнь, не говоря о том, что можете сделать очень хорошую карьеру. Теперь я вас оставлю на некоторое время, на час, на два, а вы — подумайте. Медлить — не советую.
Уходя и прикрывая за собою дверь маленькой камеры, Симонов добавил:
— Выхода у вас нет.
Хорошо помню, что меня не испугала петля, накинутая на шею мою, хотя я понимал, что игра моя проиграна непоправимо. Мне кажется, что я ни одной минуты не думал о том, какое принять решение, я принял его тотчас же, как только услыхал слова Симонова «заменить Попова». Хорошо помню, что я сам был удивлен быстротой и легкостью, с которыми это решение возникло, — оно явилось так же естественно и просто, как возникает желание спать, гулять, выпить воды.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
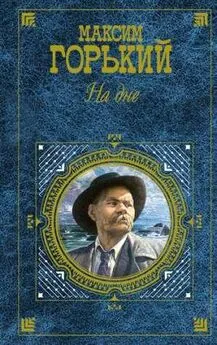

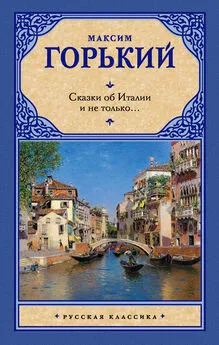
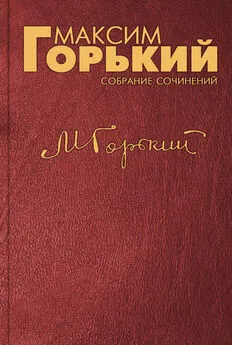


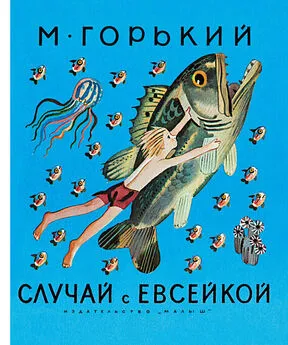
![Максим Горький - Трусливый Ваня [сборник]](/books/1061839/maksim-gorkij-truslivyj-vanya-sbornik.webp)