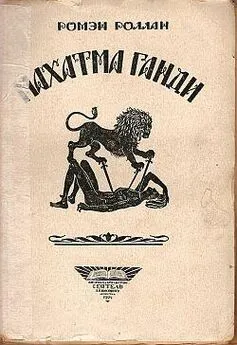Ромен Роллан - Жан-Кристоф. Книги 6-10
- Название:Жан-Кристоф. Книги 6-10
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1970
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ромен Роллан - Жан-Кристоф. Книги 6-10 краткое содержание
Роман Ромена Роллана "Жан-Кристоф" вобрал в себя политическую и общественную жизнь, развитие культуры, искусства Европы между франко-прусской войной 1870 года и началом первой мировой войны 1914 года.
Все десять книг романа объединены образом Жан-Кристофа, героя "с чистыми глазами и сердцем". Жан-Кристоф — герой бетховенского плана, то есть человек такого же духовного героизма, бунтарского духа, врожденного демократизма, что и гениальный немецкий композитор.
Во второй том вошли книги шестая — десятая.
Перевод с французского Н. Касаткиной, В. Станевич, С. Парнок, М. Рожицыной.
Вступительная статья и примечания И. Лилеевой.
Жан-Кристоф. Книги 6-10 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
К тому же клиентура Брауна и тот весьма тесный круг, к которому принадлежала его жена, представляли собой протестантский, особенно ригористически настроенный мирок. Здесь Кристоф был вдвойне на дурном счету — как католик по происхождению и как неверующий по существу. Он, в свою очередь, видел в этом кругу много такого, что его возмущало. Хоть Кристоф и перестал верить, он все же был отмечен вековой печатью католицизма, менее рассудочного, более поэтического, снисходительного к человеческой природе и не столько озабоченного толкованием и пониманием, сколько тем — любить или не любить; к тому же в Кристофе сильны были привычки к интеллектуальной и моральной свободе, которые, сам того не зная, он усвоил в Париже. Он роковым образом должен был столкнуться с этим узким ханжеским мирком, где резко обнаруживались недостатки кальвинизма — религиозный рационализм, подрезывающий крылья вере и оставляющий ее беспомощной на самом краю бездны, ибо он исходил из a priori [49] Заранее установленного (лат.).
, столь же спорного, как и всякий мистицизм: это была уже не поэзия и не проза, это была поэзия, переложенная на прозу. Интеллектуальная гордыня, неограниченная, слепая вера в разум — в свой разум. Они могли не верить ни в бога, ни в бессмертие, но они верили в разум, как католик в папу, как идолопоклонник в своего идола. Им даже в голову не приходило сомневаться в своей вере. Если жизнь явно ей противоречила, они готовы были скорее отрицать самую жизнь. Полное незнание психологии, непонимание природы, сокровенных ее сил, основ человеческого существа, «Духа земли». Они создавали мир, наполненный какими-то ребяческими, упрощенными схематическими существами. Были среди них люди образованные и опытные, которые много читали, много видели. Но они не видели ни одной вещи и не прочли ни одной книги по-настоящему; из всего они делали только абстрактные выводы. Им недоставало крови в жилах; при всех их высоких нравственных качествах они были недостаточно человечны, а это величайший грех. Сердечная их чистота, зачастую вполне искренняя, благородная и бесхитростная, порою смешная, в иных случаях, к несчастью, становилась трагичной: она вызывала черствость по отношению к другим людям, спокойную, незлобивую, уверенную в себе и поистине устрашающую бесчеловечность. Как могли бы они сомневаться? Разве не обладали они истиной, правом, добродетелью? Разве не оттуда извлекали они откровение святого разума? Разум — суровое солнце; он освещает, он и ослепляет. В этом резком свете, без облаков и теней, души растут обесцвеченными, — кровь их сердца высосана.
Между тем если что-либо в эту пору и было для Кристофа лишено всякого смысла, так именно разум. Его взору это солнце освещало лишь стены бездны, не указывая средства, как выйти оттуда, и даже не давая возможности измерить ее глубину.
Что же касается артистической среды, то у Кристофа было мало случаев и еще меньше охоты общаться с нею. Музыканты были в большинстве честными консерваторами неошуманской и «браминской» эпохи, против которых Кристоф когда-то ломал копья. Среди них двое составляли исключение: органист Кребс, владелец известной кондитерской, славный малый, хороший музыкант, который был бы еще лучшим музыкантом, если бы, пользуясь выражением одного из своих соотечественников, «не сидел на Пегасе, которому слишком много давал овса», и молодой композитор-еврей, своеобразный талант, исполненный большой и беспокойной силы, который торговал швейцарскими изделиями: деревянной скульптурой, домиками и бернскими медведями. Более независимые, чем все другие, вероятно потому, что они не обращали своего искусства в ремесло, они охотно сблизились бы с Кристофом, и в другое время Кристофу любопытно было бы познакомиться с ними; но в эту пору его жизни всякое любопытство, артистическое и человеческое, притупилось в нем; он острее чувствовал то, что отделяло его от людей, чем то, что соединяло его с ними.
Единственным его другом, поверенной его дум была протекавшая по городу река, — та самая мощная родная река, которая там, на севере, омывала его родной город. У ее берегов Кристофу снова вспоминались его детские грезы… Но в обуревавшей его скорби воспоминания эти, как и сам Рейн, принимали какой-то траурный оттенок. На склоне дня, опершись на перила набережной, он глядел на бурную реку, на эту струящуюся, тяжелую, темную, торопливую, вечно убегающую куда-то громаду, где ничего нельзя было различить, кроме изгибов и стремнин, множества ручьев, течений, то возникающих, то снова исчезающих водоворотов, — подобно хаосу образов в бредовой мысли, которые вечно вспыхивают и вечно тают. В этом сумеречном сие скользили, точно гробы, какие-то призрачные паромы, без единой человеческой фигуры. Мрак сгущался. Река становилась бронзовой. Береговые огни зажигали чернильно-черные отсветы на ее латах, сверкавших темными молниями. Медные отблески газовых рожков, лунные отблески электрических фонарей, кровавые отблески свечей за стеклами домов. Ропот реки наполнял тьму. Вечное журчание, однообразное и еще более печальное, чем шум моря.
Кристоф целыми часами впитывал в себя эту песню смерти и печали. Ему трудно было оторваться от реки; потом он снова подымался к себе домой крутыми улочками с истертыми Посредине красными ступенями; разбитый душой и телом, он цеплялся за железные, вделанные в стену перила, которые поблескивали, освещенные сверху фонарями, выстроившимися на пустынной площади перед окутанной мраком церковью…
Он не мог понять, зачем люди живут. Вспоминая битвы, свидетелем которых он был, он горестно дивился этому человечеству с его живучей верой. Одни идеи сменялись другими, противоположными, периоды действия — периодами реакции; на смену демократии приходила аристократия, социализму — индивидуализм, романтизму — классицизм, прогрессу — традиция, и так из века в век. Каждое новое поколение, сгорающее в какие-нибудь десять лет, с тем же пылом верило, что только оно достигло вершины, и градом камней сбрасывало вниз своих предшественников; оно волновалось, кричало, добивалось власти и славы, а потом скатывалось вниз под градом камней новоприбывших и исчезало. За кем теперь черед?
Музыкальное творчество уже не служило утешением Кристофу; оно было каким-то прерывистым, беспорядочным, бесцельным. Писать? Для кого писать? Для людей? Он переживал период жестокой мизантропии. Для себя? Он слишком остро чувствовал тщету искусства, не способного заполнить пустоту смерти. Одна только его слепая сила мгновениями подымала его мощным своим крылом и тут же поникала надломленная. Он был точно грозовая туча, грохочущая во мраке. С исчезновением Оливье ничего не осталось, ровно ничего. Он ожесточенно нападал на все, что прежде заполняло его жизнь, — на чувства, на мысли, которые в то время он, как будто, разделял со всем остальным человечеством. Теперь ему казалось, что он был игрушкой заблуждения: вся общественная жизнь зиждилась на огромном недоразумении, источником которого была человеческая речь… Ты думаешь, что твоя мысль может общаться с другими мыслями? Существует связь только между словами. Ты говоришь и слушаешь слова; ни одно слово не имеет одного и того же смысла у различных людей. И это еще не все: ни одно слово, ни единое, не исчерпывает всего своего смысла в жизни. Слова переплескиваются за пределы прожитой тобой действительности. Ты говоришь: любовь и ненависть… Нет ни любви, ни ненависти, ни друзей, ни врагов, ни веры, ни страсти, ни добра, ни зла. Есть только холодные отсветы лучей, падающие от звезд, угасших уже много веков назад. Друзья? Нет недостатка в людях, притязающих на это звание. О, пошлая действительность! Что такое их дружба, что такое дружба в общепринятом смысле этого слова? Сколько мгновений своей жизни отдает тот, кто мнит себя другом, бледному воспоминанию о своем друге? Чем пожертвовал бы он ради него — не только из самого необходимого, но даже из того, что у него есть в избытке, в праздности, в скуке своей? Чем я сам пожертвовал ради Оливье? (Ибо Кристоф не делал для себя исключения, — одного только Оливье исключал он из всеобщего ничтожества, в котором сливались для него все человеческие существа.) Искусство не более подлинно, чем любовь. В самом деле, какое место занимает оно в жизни? Какой любовью любят его те, кто мнят себя его поклонниками? Убожество человеческих чувств неописуемо. Вне родового инстинкта, этой космической силы, которая является рычагом мира, не существует ничего, кроме легкого праха волнений; Большинство людей недостаточно богато жизнью, чтобы всецело отдаться какой бы то ни было страсти. Они берегут себя с осмотрительной скаредностью. Они — во всем понемногу и нигде целиком. Тот, кто отдает себя, не рассуждая, всему тому, что он делает, всему, чем он болеет, всему, что он любит, всему, что он ненавидит, — тот поистине чудо, величайшее чудо, которое нам дано встретить на земле. Страсть — точно гений: чудо. Иначе говоря, ее не существует!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: