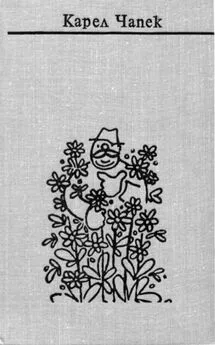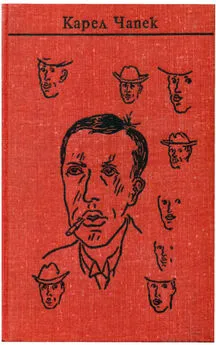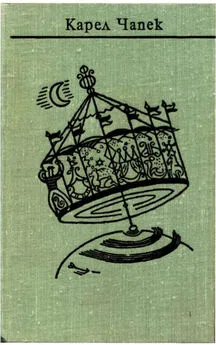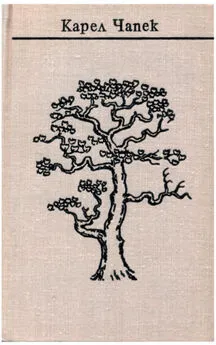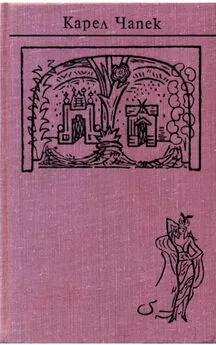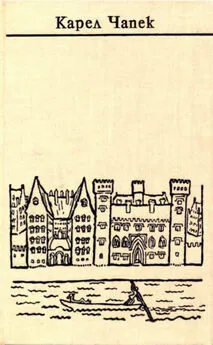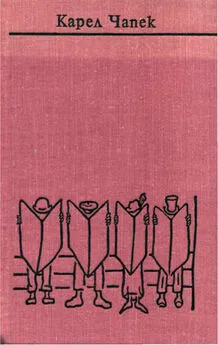Карел Чапек - Чапек. Собрание сочинений в семи томах. Том 6. Рассказы, очерки, сказки
- Название:Чапек. Собрание сочинений в семи томах. Том 6. Рассказы, очерки, сказки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1977
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карел Чапек - Чапек. Собрание сочинений в семи томах. Том 6. Рассказы, очерки, сказки краткое содержание
Шестой том собрания сочинений Карела Чапека составили очерки, рассказы и сказки. Многие очерки переводятся впервые. Том иллюстрирован рисунками Иозефа и Карела Чапеков.
Стр. 400. Рисунок И. Чапека к очерку К. Чапека «Куда деваются книги».
Стр. 462. Фрагмент рисунка И. Чапека к очеркам К. Чапека «Как ставится пьеса» (1938).
Чапек. Собрание сочинений в семи томах. Том 6. Рассказы, очерки, сказки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
По другой версии, это — явление акустическое; ты просыпаешься и не слышишь отдаленного и безграничного шума человеческого труда, и тебе чего-то недостает. Это удручает так же, как если вдруг остановится мельница. Объяснение это однозначное и потому — неправильное, ибо с катастрофическим предчувствием воскресенья я пробуждаюсь и в совершенно незнакомых городах, и даже в горных приютах; даже если бы меня забросило бурей на пустынный остров, где не было бы Пятницы, то однажды утром я наверняка проснулся бы с жутким ощущением, что сегодня что-то не в порядке и мне ничегошеньки делать не хочется. «А-а, — догадался бы я под конец, — наверное, сегодня воскресенье». И это на самом деле оказалось бы так.
Ручаюсь, что все эти уикэнды, походы и народные торжества — всего лишь отчаянное бегство от воскресной депрессии; люди считают, что нужно довести себя до изнурения, дабы забыть о сокрушающей скуке дня воскресного. Горе им, ибо воскресенье преследует их по пятам на Сватоянских порогах [71]и на Карлштейне, в Дивокой Шарке [72]и на стадионах «Спарты». Куда благоразумнее поступает тот, кто встречает воскресенье лицом к лицу на городских улицах либо преодолевает его дома, переболев им, как гриппом. В городе обнаруживается, что воскресный день еще можно кое-как перенести, в нем есть доля чего-то торжественного, прелестно выглядят девушки, а кроме того, можно читать воскресные газеты. Островоскресное состояние прорывается только после полудня; город испускает из себя сонную одурь, и на улицу выходят люди, которых в другое время вы нипочем не увидите. Оказывается, тысячи людей существуют лишь в воскресенье: это старые девы, вдовы и сироты, мужчины с усами, дядюшки и тетушки, монашки и старушки, удивительные существа, которые выглядят так, будто тридцать лет провисели в шкафу и только по воскресеньям выходят проветриться, чтобы их не источила моль. На улицах видишь необычные, чисто воскресные лица, бледные, носатые, усатые, конопатые, веснушчатые, помятые; людей, одетых, как правило, бедновато, но чисто; на всех — отпечаток чего-то стародавнего или, скорее, — вневременного; кроме воскресных дней, такие лица и такие костюмы можно встретить еще на бедных похоронах. К четырем-пяти часам на улице появляются целые семьи, что открыто обнаруживают свое существование также только по воскресеньям: ну встретишь ли в будни семью в полном составе — вместе с противными мальчишками, которых одергивают на каждом шагу, с дочками, у которых торчат оборки штанишек, с маменькой, колышущейся, словно лодка, и папашей, что посасывает сигару в мундштуке и критикует состояние улиц и новостроек? Воскресный род людской, говорю я вам, одинаков в Риме, в Париже и Лондоне; из воскресенья в воскресенье он обращает мир в вещь, неистребимую и страшную: в местечко.
В воскресный день мещанин прячется не от города и его гама; он бежит от «местечка» с его сплином и его ленивой сутолокой. Это «забитое» местечко, в будни укрытое в мастерских, в лавчонках и дома, оставляет для себя воскресенье и праздники, чтобы завладеть улицами и площадями, это не только прогулка, это — почти манифестация: мы тут. Мы, старые девы, папеньки и маменьки, дядюшки и тетушки. Мы — вне времени. Мы — вечные.
1927
Позвольте мне выставить у позорного столба ту несправедливость, которую поэты позволяют себе по отношению к природе, замалчивая ее великие и прекрасные заслуги. Да, разумеется, иногда они плетут венки из незабудок, воспевают розы и украшают свои вирши лилиями либо повиликой; однако нам не известны факты, чтобы они собирали роговик или веронику, прославляли луговой петушок либо нежным словцом помянули цветущий щавель. Не для них цветет купальница, лютик, камнеломка; не склонятся они над голубой будрой, не изумятся весеннему сочевичнику, и не поразит их ослепительный блеск калужниц; теперь я еще сделаю это за вас, барды: пусть лишь грубым языком неловкой, непоэтичной прозы; но впредь честно свидетельствуйте в пользу того, что просится быть увиденным и услышанным, ничего не утаивая о своих поэмах.
Прежде всего вот она — удалая, блестящая калужница, чей желтый цвет так красив и богат оттенками, как ни один другой желтый цветок в мире: цвет насыщенный, сочный и глубокий, столь густой и ядреный, как будто цветок калужницы трудился над своей окраской целые столетия. Когда же калужница сбросит свою блестящую корону, останется после нее щетинистый и твердый семенник: крошечная и гордо вскинутая булава. Говорю вам: калужница — это сила; сила, плечистая, здоровая и ветвистая, огонь-девка, рукастая, грудастая, крепышок среди всех других цветов. Маленькая, коренастая, плотно сбитая богатырша. Не спорьте, калужница — молодица на загляденье!
А вот — камнеломка, целые пригоршни цветов, букет молочно-белый, сияющее буйство на стебле, жестком, как ремень; луга полны ею, их словно снегом припорошило, и всякий цветок торчит и вытягивается, как тополек, из прибитой к земле розетки листьев. Никак не нацветешься ты, стойкий и неизбывный цветик; я знаю, каждый из нас делает, что может, но тот, кто нечто уже совершил, тот понимает, что значит исполнить долг.
А что за прелесть вероника — голубое облачко в траве, непонятно откуда взявшийся кусочек затуманившегося голубого неба, словно припорошенного пыльцой прекрасной погоды; мирная и трогательная лазурь бессчетных голубых очей; меж стеблей травы, словно дети меж планками забора, высматривают они — что же творится на улице? Да чему там твориться? Вот только пришел кто-то чужой, — ты чей, малышок с вытаращенными глазенками? А я Вероникин. Так, так, значит, ты из семьи Вероники; ну, что ж, это славно, этого нечего стесняться.
А лютик? Лютик — это само изящество, тонкая упругость и яркая, серная, сопранная желтизна; высоко над травой сверкают блестящие и холодные чашечки на таких тоненьких стебелечках, словно они сами по себе парят в воздухе. Ты цветешь не на земле, мой золотой, а в свободном пространстве, как звезды небесные. Высока твоя дума, ядовитый цветок; а ведомо ли тебе, как жмется к земле почтенная и милая лапчатка?
А ты, благородная, рослая купальница; бледная, чуть поблекшая желть шарообразных цветков, слишком изысканных, чтобы раскрываться до конца. Разве так, полураскрыться слегка, чтоб выдохнуть тонкий аромат. И даже если бы купавок были полны луга, все равно каждая останется сама по себе: такие уж это аристократки.
Роговик, роговик: вот они — буйные белые цветики, у которых каждый лепесток вырезан сердечком. Роговик — он такой: коли цвести, так уж целыми коврами либо подушками. Отчего это цветы на низких стеблях цветут так купно, так богато и густо? Не оттого ли, что они так близко к земле и к ее силе? А может, потому, что нужно застелить и заполнить всю землю, в то время как парить можно и в воздухе? Нам никогда не заполнить мирового простора, но землю мы можем укрыть ковром своей работы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: