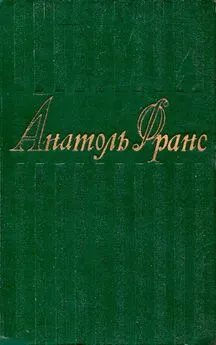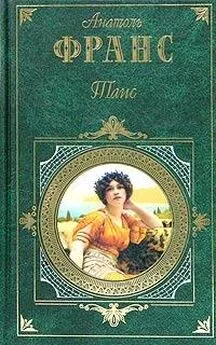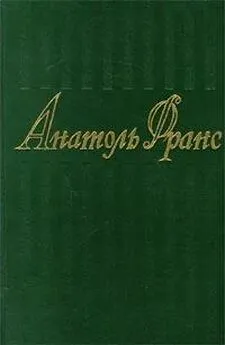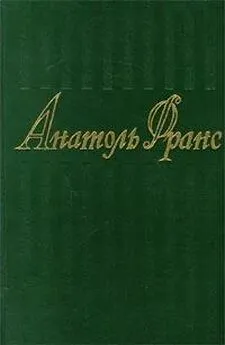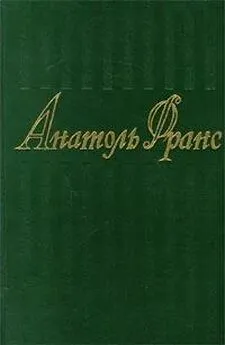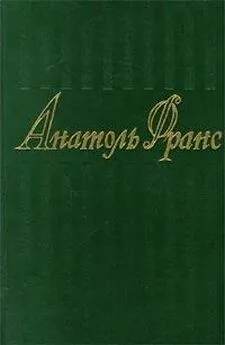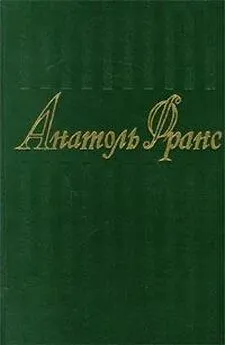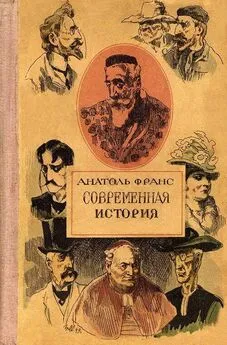Анатоль Франс - 2. Валтасар. Таис. Харчевня Королевы Гусиные Лапы. Суждения господина Жерома Куаньяра. Перламутровый ларец
- Название:2. Валтасар. Таис. Харчевня Королевы Гусиные Лапы. Суждения господина Жерома Куаньяра. Перламутровый ларец
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство Художественная литература
- Год:1958
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатоль Франс - 2. Валтасар. Таис. Харчевня Королевы Гусиные Лапы. Суждения господина Жерома Куаньяра. Перламутровый ларец краткое содержание
Во второй том собрания сочинений вошли сборники новелл: Валтасар (Balthasar, 1889) и Перламутровый ларец (L’Étui de nacre, 1892); романы: Таис (Thaïs, 1890), Харчевня королевы Гусиные Лапы (La Rôtisserie de la reine Pédauque, 1892), Суждения господина Жерома Куаньяра (Les Opinions de Jérôme Coignard, 1893).
2. Валтасар. Таис. Харчевня Королевы Гусиные Лапы. Суждения господина Жерома Куаньяра. Перламутровый ларец - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— Прощайте, — сказал он. — Я бегу из страны, ставшей на путь гибели и преступлений. Через день я вступлю на берега Англии. При мне триста луидоров, это все, что мне удалось обратить в деньги. Я оставляю здесь значительное имущество. Положиться я могу только на вас. Милль глуп. Защищайте мои интересы. Я знаю, что это чревато опасностями; но я достаточно уважаю вас, чтобы доверить вам хлопоты в рискованном деле.
Я ничего не ответил, только схватил его руки, поцеловал их и оросил слезами.
В то время как он бежал из Парижа, переодетый и снабженный подложным паспортом, я сжигал в камине его особняка бумаги, которые могли опорочить многие семьи и стоить жизни сотням людей. В следующие дни мне посчастливилось продать, — правда, по очень низкой цене, — кареты, лошадей и столовое серебро г-на де Пюибонна и спасти таким образом от семидесяти до восьмидесяти тысяч ливров, которые и были переправлены через пролив. Щекотливое поручение герцога было не менее опасным, чем его побег. Я рисковал жизнью. На другой же день после десятого августа в столице воцарился террор. На улицах, еще накануне оживленных пестрой смесью костюмов, оглашаемых криками уличных торговцев и цокотом конских копыт по мостовой, водворилось уныние и тишина. Все лавки были заперты; горожане, укрывшись в домах, дрожали за своих друзей и за себя.
Заставы охранялись, и никто не мог выйти из города, объятого ужасом. Патрули вооруженных пиками людей обходили улицы. Только и говорили что об обысках. Из своей комнаты, расположенной под самой крышей, я слышал шаги вооруженных граждан, стук прикладов и пик в двери соседних домов, стенания и крики жителей, которых тащили в секции. Санкюлоты, целыми днями устрашавшие террором мирных обывателей квартала, вечером собирались в соседней бакалейной лавке; там всю ночь напролет они пили, плясали карманьолу, пели «Дело пойдет!» И я до самого утра не смыкал глаз. Тревога еще усугубляла тяжесть бессонницы. Я жил в страхе, что какой-нибудь лакей донесет на меня и я буду арестован.
В те дни вспыхнуло какое-то поветрие доносов. Не было поваренка, который, возомнив себя Брутом, не предал бы хозяев, кормивших его.
Я постоянно был настороже: верный слуга обещал предупредить меня при первом же ударе дверного молотка. Не раздеваясь, я бросался на кровать или в кресла. При мне был ключ от садовой калитки. В те тревожные сентябрьские дни, когда я узнал, что сотни узников обезглавлены при полном равнодушии общества и попустительстве властей, отвращение преодолело страх, и мне стало стыдно за себя, ибо я заботился о своей безопасности, дрожал за свою жизнь, а мне должно было скорбеть за страну, где творятся такие злодеяния.
Я не боялся более показываться на улицах, не избегал встречи с патрулями. Однако ж я любил жизнь. Я испытывал на себе ее властные чары вопреки сердечным тревогам и горестям. Прелестный образ затмевал мрачные картины, которые развертывались передо мною. Я любил Амелию, и ее юное лицо обретало в моем воображении неизъяснимое очарование. Я любил ее без надежды на взаимность. Но все же мне казалось, что, действуя мужественно, я становлюсь более достойным ее. Я льстил себя надеждой, что опасности, которым я подвергаюсь, по крайней мере придадут мне весу в ее глазах.
В таком расположении духа я пришел к ней однажды утром. Она была одна. Еще никогда не говорила она со мной так ласково. Подняв глаза к небу, она обронила слезу. Невыразимое волнение овладело мной. Я упал к ее ногам, схватил ее руку и обливал ее горячими слезами.
— О брат мой! — сказала она, стараясь поднять меня.
Я не понял в тот миг жестокой ласки в этом слове «брат». Я говорил с ней от всего сердца.
— Да! — восклицал я. — Ужасные времена! Люди злы. Бежим от них! Счастье в уединении. Есть еще далекие острова, где можно жить в простоте, в безвестности. Бежим туда! Пойдем искать счастья в тени латаний, на могиле Виргинии! [320]
Я говорил, а она глядела вдаль и, казалось, грезила; но были ли ее грезы в согласии с моими, я не знал.
Остальную часть дня я провел в самых жестоких сомнениях. Я не мог ни отдохнуть, ни чем-либо заняться. Одиночество страшило меня, людей я бежал. В таком душевном состоянии я рассеянно бродил по улицам и набережным, глядя с грустью на изуродованные гербы на фронтонах особняков и на обезглавленных святых в порталах храмов. Замечтавшись, я нечаянно очутился в Пале-Рояле среди пестрой толпы праздных парижан, приходивших сюда прочесть газету за чашкой кофе. В те дни Деревянные галереи имели праздничный вид.
С момента объявления войны и успеха союзных армий парижане приходили в Тюильри и Пале-Рояль, чтобы узнать последние новости. В хорошую погоду там собирались большие толпы, и даже самая неустойчивость положения вносила некоторое разнообразие в жизнь.
Многие женщины, одетые с простотой древних гречанок, носили у пояса или в волосах ленты трех цветов нации. В толпе я чувствовал себя еще более одиноким; весь этот шум, вся эта суета не вовлекали меня в свой круговорот, а скорее отталкивали и принуждали уйти в себя.
«Увы! — говорил я себе. — Достаточно ли ясно я сказал? Выказал ли я вполне свои чувства? И не сказал ли я чего-нибудь лишнего? Даст ли она согласие встретиться со мной теперь, когда знает, что я люблю ее? Но знает ли она? И хочет ли она знать?»
Так сетовал я на шаткость своей судьбы, как вдруг мое внимание привлек чей-то знакомый голос. Я поднял голову и увидел г-на Милля, который пел в кафе, стоя в кругу патриотов и гражданок. На нем был мундир Национальной гвардии, левой рукой он обнимал молодую женщину, в которой я признал одну из цветочниц Рампонио, и пел на мотив «Лизетты»:
Пусть сотни депутатов с нас
И сняли бы оковы,
Красавиц тысячи тотчас
Вернут нас в рабство снова.
Ведь дамы — это не секрет —
Порядок любят старый…
Похвалишь новый ты декрет —
Жди их суровой кары!
Одобрительный ропот был наградой певцу. Г-н Милль улыбнулся, поклонился небрежно и, обернувшись к подруге, пропел:
О милая Софи, им всем
Хоть вы не подражайте
И философию ничем,
Молю, не унижайте.
Салонам Франции она
Диктует все законы,
И с ней права вернет, сполна
Народ многомильонный!
Ему рукоплескали. Г-н Милль, вынув из кармана бант, передал его Софи, напевая;
Пора кокарду пристегнуть
И вам в порыве братском,
Люблю украсить ею грудь
Я на посту солдатском.
И если золота милей
Вам розы в час расцвета,
Найдете все цветы полей
В трехцветной ленте этой.
Софи, приколов трехцветную ленту к чепцу, победоносно обвела слушателей своим тупым взглядом. Все рукоплескали. Г-н Милль раскланялся. Он глядел в толпу, не видя ни меня, ни кого-либо другого; или, вернее, в этой толпе он видел только отражение самого себя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: