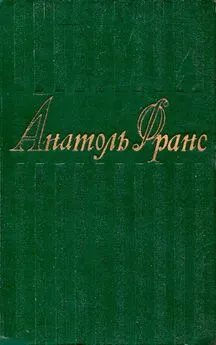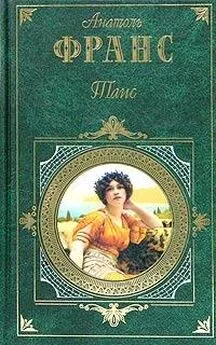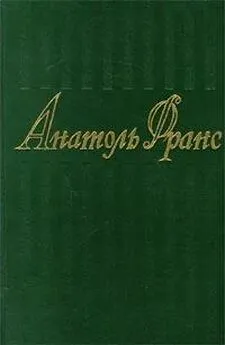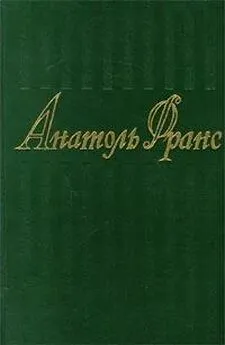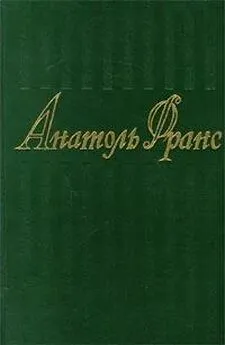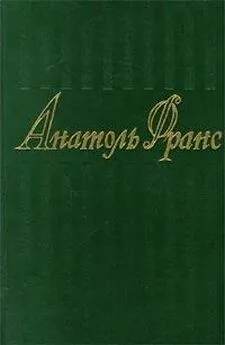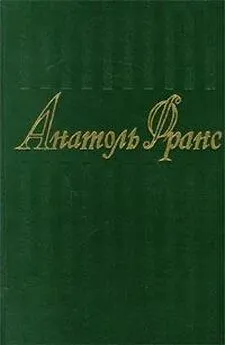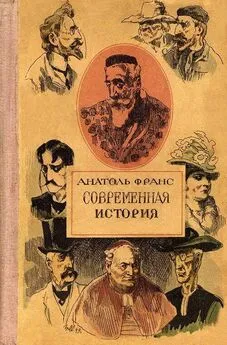Анатоль Франс - 2. Валтасар. Таис. Харчевня Королевы Гусиные Лапы. Суждения господина Жерома Куаньяра. Перламутровый ларец
- Название:2. Валтасар. Таис. Харчевня Королевы Гусиные Лапы. Суждения господина Жерома Куаньяра. Перламутровый ларец
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство Художественная литература
- Год:1958
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатоль Франс - 2. Валтасар. Таис. Харчевня Королевы Гусиные Лапы. Суждения господина Жерома Куаньяра. Перламутровый ларец краткое содержание
Во второй том собрания сочинений вошли сборники новелл: Валтасар (Balthasar, 1889) и Перламутровый ларец (L’Étui de nacre, 1892); романы: Таис (Thaïs, 1890), Харчевня королевы Гусиные Лапы (La Rôtisserie de la reine Pédauque, 1892), Суждения господина Жерома Куаньяра (Les Opinions de Jérôme Coignard, 1893).
2. Валтасар. Таис. Харчевня Королевы Гусиные Лапы. Суждения господина Жерома Куаньяра. Перламутровый ларец - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Скепсис Франса по отношению к мифу о Христе, его критическое отношение к христианству в целом определили характер всех его новелл на сюжеты церковных легенд.
Подобно тому, как это было в «Прокураторе Иудеи», в новеллах «Амикус и Целестин», «Легенда о святых Оливерии и Либеретте», «Святая Евфросиния», «Схоластика», «Жонглер богоматери», «Обедня теней», Франс условно принимает на веру сверхъестественный элемент христианских легенд, чтобы потом, с помощью иронии, а в отдельных случаях и прямого авторского комментария выразить свой тонко замаскированный атеизм.
В новелле «Амикус и Целестин» фавн подвергается добровольному крещению, впоследствии его чтут как святого. Казалось бы, что на этом примере можно иллюстрировать торжество христианства. Но тут же, как бы невзначай, автор роняет замечания о том, что, «несмотря на все усилия, отшельнику так и не удалось втолковать получеловеку (то есть фавну Амикусу) неизреченные тайны», что для изгнания бесов отнюдь недостаточно одного евангелия от Иоанна, что побороть языческих фей — не такое уж легкое дело даже для святого отшельника, «обладавшего теми познаниями, которые дает человеку созерцание бога», — и вся нарисованная картина приобретает ироническую окраску.
В наивной и человечной средневековой легенде о жонглере богоматери Франса привлекала парадоксальность самой, вполне «франсовской», ситуации. Источником новеллы Франса является французское фаблио на этот сюжет. Герой новеллы, жонглер, то есть народный бродячий комедиант, Барнабе, в честь богоматери «вниз головою, подняв ноги кверху, жонглировал шестью медными шарами и двенадцатью ножами» пред алтарем святой девы. Образ Барнабе отнюдь не сатиричен; рассказывая его историю, писатель не упускает случая заметить, что, добывая в поте лица свой хлеб, он более чем кто-либо другой платился за грех праотца Адама. Явное сочувствие к горемыке-труженику находится в прямом соответствии с утверждением его простонародного антиаскетического искусства, противостоящего мертвой религиозной догме.
Монашеский аскетизм становится объектом авторской насмешки в новелле «Схоластика». Благочестивый Инъюриоз отказался от супружеской жизни со Схоластикой, которая решила посвятить себя богу. Разумно ли поведение простодушного супруга? Его не оправдывает даже сама Схоластика. В противовес христианской доктрине аскетизма язычник Сильвен истолковывает чудо, свершившееся на могиле героини, в том смысле, что надобно «вкушать радости жизни, пока есть время». Что это одновременно и мнение автора, доказывается многими другими его произведениями.
Ключом к пониманию внутреннего смысла франсовских стилизаций церковных легенд является также авторская «библиографическая» приписка к новелле «Святая Евфросиния». Рассказав в «благочестивом» тоне об уходе в монастырь Евфросинии, ее жениха Лонгина и ее отца Ромула, Франс шутливо называет свою новеллу «ученым трудом», иронизирует над точностью датировки («между седьмым и четырнадцатым столетием христианского летоисчисления») и «византийской чопорностью стиля» своего мнимого источника и кончает характерным признанием, касающимся существа рассказа: «Быть может, он даже представляет собой сплошную нелепость». Так сам Франс раскрывает иронический смысл своих стилизаций.
Скепсис по отношению к религии и «археологический» интерес к христианским древностям, свойственные раннему Франсу, со временем, по мере общественно-политической активизации Франса и его сближения с демократическими кругами, перерастают в воинствующий атеизм, определивший появление острой сатиры на церковь и религию в зрелом творчестве писателя.
В новеллах, написанных на материале церковных легенд, уже наметились приемы тонкой пародии и стилизации, которые будут использованы для обличения религии и церкви в «Острове пингвинов», «Чуде святого Николая» и «Восстании ангелов».
Темам из современной Франсу буржуазной действительности в «Перламутровом ларце» посвящены новеллы: «Лесли Вуд», «Гестас» и «Записки сельского врача». Правда, в 1886 г. Франс опубликовал в периодике еще две новеллы: «Граф Морен» и «Маргарита», в которых имеются элементы критики буржуазных парламентариев и государственной машины Третьей республики. Однако автор не включил эти новеллы в сборник.
В 80-е годы Франс только начинал осваивать современную тематику.
«Лесли Вуд» — это «Схоластика», перенесенная из средневековья в современность. Идейная направленность обеих новелл одна и та же: она в осуждении аскетизма. При этом в «Лесли Вуде» губительность аскетизма, уродующего и опустошающего человеческую личность, подчеркнута всем объективным смыслом повествования, хотя автор нигде прямо не высказывает ни своего гнева, ни осуждения.
В новелле «Гестас» Франс изображает простодушного пьянчужку, и прегрешения и раскаяние которого обрисованы со снисходительной иронией. Не случайно герой назван именем разбойника, распятого, по библейской легенде, рядом с Христом и после смерти попавшего в рай. Французская критика не без основания усматривает в образе Гестаса черты сходства с поэтом символистом Полем Верленом, который был связан с парижской литературной богемой и в то же время в своих стихах отдал дань религиозному мистицизму. Это предположение подтверждается портретным сходством Гестаса с Верленом, а также близостью самой новеллы к критической статье Франса о Поле Верлене, написанной в те же годы.
Характер литературной полемики против натуралистической теории наследственности носят «Записки сельского врача». Называя Эмиля Золя по имени, Франс выражает сомнение в «универсальности» его схемы, согласно которой наследственность неумолимо определяет характер, поведение и даже профессию человека. В «Записках сельского врача» изображается чета крестьян, не блистающих особым умственным развитием, у которой, наперекор натуралистической доктрине, родился талантливый ребенок. Врач-рассказчик, свободный от предрассудков господствующих классов, претендующих на монополию в области ума и таланта, с восхищением отмечает в этом рано умершем крестьянском мальчике «одного из тех великих людей, которые… всюду, куда их забрасывает судьба, делают полезное и хорошее дело». Даже внешностью маленький Элуа напоминает физика Ампера.
К утверждению талантливости выходцев из народа Франс вернется еще в «Современной истории», где в одном из эпизодов показана печальная участь сына сапожника Фирмена Пьеданьеля, жертвы реакционных клерикалов.
Вошедшие в «Перламутровый ларец» новеллы о французской буржуазной революции конца XVIII в. представляют собой переработанные фрагменты из неудавшегося романа Франса «Алтари страха», главы из которых печатались в «Le Journal des Debats» в марте 1884 г. Заглавие романа было заимствовано у А. Шенье, французского поэта-роялиста конца XVIII в., казненного во время революции.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: