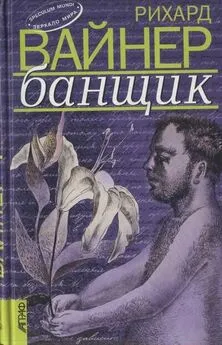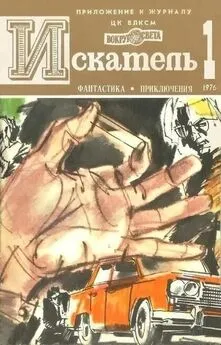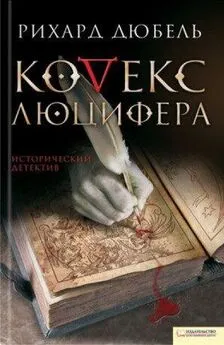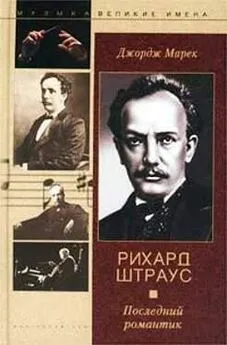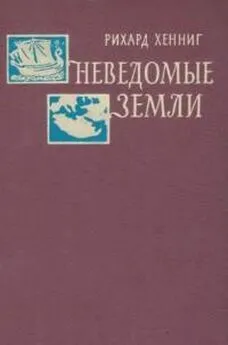Рихард Вайнер - Банщик
- Название:Банщик
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-7784-0255-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Рихард Вайнер - Банщик краткое содержание
Выдающийся чешский писатель, один из столпов европейского модернизма Рихард Вайнер впервые предстает перед русским читателем. Именно Вайнер в 1924 году «открыл» сюрреализм. Но при жизни его творчество не было особенно известно широкой аудитории, хотя такой крупный литературный авторитет, как Ф. К. Шальда, отметил незаурядный талант чешского писателя в самом начале его творческого пути. Впрочем, после смерти Вайнера его писательский труд получил полное признание. В 1960-е годы вышло множество отдельных изданий, а в 1990-е начало выходить полное собрание его сочинений.
Вайнер жил и писал в Париже, атмосфера которого не могла не повлиять на его творчество. Главная тема произведений Вайнера — тема утраты личности — является у него не просто данью времени, а постоянным поводом для творчества. Рассказывание никогда не выступает как непосредственное, но оказывается вторичным.
Пришло время и русскому читателю познакомиться с этим «великим незнакомцем», чему помогут замечательные переводы Н. Я. Фальковской и И. Г. Безруковой.
Банщик - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В тот момент вдруг все отступило перед мыслью, которая, как я отчетливо видел, вилась, точно обматывающийся вокруг головы бинт; в то же время она была телеграфной лентой, на которой при помощи значков азбуки Морзе сообщалось следующее: есть люди, в которых мы заключены, словно в цельном стеклянном шаре, мы вделаны в него, мы глядим из него — и сквозь него — на все четыре стороны, и внезапно кто-то разбивает его, он рассыпается в пыль, как булонская бутылочка, я свободен и независим, и странно — тот, кто был причиной, что я не мог смотреть иначе, как сквозь него, вдруг стал для меня еще более неодолимо ничем, нежели самый безразличный мне смертный из тех, кого я могу вообразить.
Фингалова пещера трубит наперегонки с полетом чаек, П.С. прислушивается на палубе, опершись о поручень. Он слышит полет чаек, видит игру базальта. Нет, нет, он видит то, что видит, слышит то, что и предназначено слуху, но он пребывает в печальной уверенности, что лишь тогда на него снизошло бы познание, когда бы он услышал то, что сейчас только видит, когда бы увидел звуки. Конфликт либералов с консерваторами, который он едет разрешить, испарился из него. Его присутствие на палубе вследствие этого стало несколько ощутимее — еще и потому, что он сделался как бы прозрачнее. А я, не зная точно, кто я — человек на краю зубчатой башни упсальского замка или же посетитель «Двух обезьян», будучи скорее всего сращением их обоих и не чувствуя своего существа, — слежу за ним с верхушки средней мачты, в то время как он медленно тает. И вот уже не осталось ничего, кроме его тени, которая растекается по водной поверхности, состоящей из очень коротких застывших волн, подобных гофрированному железу. С этой тенью я некогда встречусь. Это будет тень, хотя бы она и не казалась таковой, но она не ужаснет меня. Прощай, мы больше не увидимся. Ибо моя миссия столь же безнадежна, как радость по поводу того, что мы ответили на вопрос, который желал остаться без ответа. Открылся горизонт — а до сих пор не было горизонта, была воистину бесконечность, и ее безграничность не потрясала, появился горизонт — на удивление твердый и четкий (твердый и четкий), а на нем — купола-луковки. Вот оно, Мальме! Тот славный университетский город, который Упсала так хотела превзойти. Когда занавес поднялся вновь, скал уже не было, а декорацию представляло собой нечто иное, не могу сказать, что. Вокзал имел таковой роковой, такой серьезный вид, что все, помимо него, утопало в равнодушии, точно Винета в своем мокром склепе, равнодушии, которое непостижимым образом проистекало из природы самой воды. Я все еще вижу этот вокзал так же явственно, как если бы я на самом деле видел его лишь во сне. И его сущность была чем-то таким, что можно было увидеть без подпорок атрибутов, — сущность как таковая. Этот вокзал был ее источником. Она вытекала из вокзала. И было заметно, что она никогда не вытечет до конца. Она текла по пологим конструкциям, образуя буруны, эти конструкции были деревянными и очень напоминали желоб, по которому поступала вода на миниатюрную мельницу парка в городе Писек. По этим конструкциям она выливалась в море. Это было, несомненно, море, но оно имело столь континентальный вид, что мы невольно искали глазами вальдшнепов или других болотных птиц. Наконец мы нашли уголок, точно сошедший с открытки, там были камыш и перевернутая лодка. И то, и другое там и в самом деле присутствовало, но только для того, чтобы издателю открыток было что фотографировать. Голос, беспомощно перемещавшийся по воздуху и напрасно пытавшийся сделаться приятным слуху, в конце концов был вынужден чем-то непреодолимым отозваться такими словами: «О Путимь, стоит тебе пожелать — и станешь ты шведской со своей часовенкой, глядящей на Штекень!»
Мы вышли из вокзала и вновь очутились перед той знакомой уже театральной декорацией, главной приметой которой была необыкновенная наполненность, телесность, я бы даже сказал — «обставленность» (так бывает обставлена квартира), а также необыкновенная вещественность. Но предметов как таковых не было. Все сияло прозрачностью, и она усиливалась, как будто поднимались газовые легкие занавеси. Это была прозрачность непостижимым образом духовная. Мы понимали, что это прозрачность, проистекающая из тех неожиданных вещей, что нас ожидают и потому не смогут удивить. Мы знали, многие из нас сказали бы скорее, что это прозрачность, проистекающая из неожиданных вещей, нам приготовленных, которые нас, однако, не удивят, мы знали, что это именно так и следует выразить, именно так, а не так, как мы это видели, но мы не могли решиться и потому не могли быть счастливыми настолько, чтобы светиться. Мы долго не знали — впрочем, что значит «долго» во сне? — откуда эта прозрачность нам знакома. В конце концов нам пришло в голову, что мы знаем ее по прогулкам в тех французских парках, рациональная регулярность которых постепенно, по мере нашего в них углубления, набухает, точно некое сонное воспоминание. Это подобно тому, как если бы молочно-стеклянная крышка стола медленно загоралась радугой — и какая же это прелесть! И я невольно переношу это разноцветное чудо на очарованность, схема которой — да, схема! — совершенно иная, очарованность, что я испытываю, решившись представить себе печальный круг, переходящий в капризную спираль. В конце концов парк разбежался по лесам — так что мы даже не смогли сказать, где и когда началось это бегство; оттуда же он набросился на вольную природу, подобно захватчику, который немедленно ассимилируется теми, кого он покорил. И он превратился в хаос, то единственно божественное, что еще осталось в сотворенной природе. Мы поняли, что эта прозрачность есть не что иное, как сумбурное сосуществование разнообразных плавно перетекающих друг в друга порядков.
Мы чувствовали, что тоже стали прозрачными. Сколько ни было огоньков, приготовленных для нас неразборчивым созидателем взаимоотношений между нами и тем, что существует помимо нас, каждый из них сумел проникнуть в наши тела. Так давайте же следовать за этим созидателем, ибо сейчас — именно та минута, когда мы не стыдимся подчиняться. Мы шагали вдоль колоннад. Он тек вдоль них, причем очень быстро, и вместе с ним текли шум и сутолока вокзала. Он тек не только в определенном направлении, но еще и к определенной цели, которая, однако, была от нас сокрыта. (Он давал нам понять, что сокрыта до поры до времени.) Нельзя было выразить это иначе, чем словами, что он на ходу преображается в движение и шум совершенно иного качества. Мы угадали гораздо раньше того момента, когда он закончил свое преобразование, чем именно он станет. Мы угадали это скорее по его замыслу, чем по постепенно протекающему преобразованию. И действительно, мы и оглянуться не успели, как он разразился роением огромного количества студентов. Так же, как еж, свернувшийся клубочком, разражается ежом, ощетинившимся колючками. Студенты все как на подбор были в студенческих мундирах. На них красовались белые фуражки с черными козырьками, а над козырьками золотились шнурки. Поскольку студентов было так много, что они составляли нечто вроде монолита, и поскольку все они были одного роста, то эти шнурки сложились в ровную, золотую, на удивление непрерывную полосу. Я немедленно назвал ее золотым веком.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: