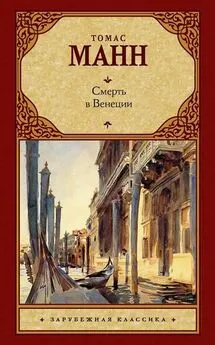Томас Манн - Волшебная гора. Часть I
- Название:Волшебная гора. Часть I
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство художественной литературы
- Год:1959
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Томас Манн - Волшебная гора. Часть I краткое содержание
Швейцарские горы Давоса. Международный санаторий «Берггоф» для туберкулезных больных, почти отрезанный от остального мира. Годы перед Первой мировой войной.
Вынужденные обитатели «Берггофа» – немцы и русские, итальянцы, голландцы и англичане – создают здесь свой медлительный, полусонный ритм жизни, ничего общего не имеющий с суетой внизу.
Прогулки в горах и чревоугодие, любовные интриги и бесконечные разговоры на философские, научные и прочие «отвлеченные» темы, – все ведет их к потере чувства времени, блаженному созерцанию окружающей природы и dolce far niente – сладостному безделью.
Что это? Неизбежные последствия болезни или попытка уйти от действительности в пассивное наслаждение жизнью?..
Волшебная гора. Часть I - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ганс Касторп, казалось, слушал его невнимательно. Он все еще вглядывался в заливающий белую комнату яркий свет, точно в какую-то даль. Потом с опозданием рассмеялся и сказал:
– Ваш больной назвал эти места родиной? Ну, конечно, в этом есть некоторая сентиментальность, как вы выразились. Да, всяких историй вы знаете немало. А я сейчас думаю о нашем разговоре по поводу холодности и жестокости: эти дни я со всех сторон обдумывал этот вопрос. Видите ли, нужно, вероятно, быть по натуре довольно толстокожим, чтобы так вот, безоговорочно мириться с воззрениями людей там, на равнине, с их вопросами вроде: «А разве у него еще есть деньги?» – и с выражением их лиц, когда они говорят такие вещи. Мне это и раньше казалось чем-то неестественным, хотя я даже не homo humanus, а теперь мне ясно, что всегда поражался этому. Может быть, в таком неприятии сыграло роль скрытое предрасположение к болезни, – я ведь сам слышал эти зарубцевавшиеся очаги, а теперь Беренс нашел у меня новый очажок. И хотя я этого не ожидал, но, в сущности, не очень удивился: здоровым как бык я себя никогда не чувствовал, да и мои родители умерли слишком рано… Я, знаете ли, с детства круглый сирота…
Сеттембрини сделал головой, плечами и руками вежливо-веселый жест, как бы вопрошая: «Ну и что же? А дальше?»
– Вы ведь писатель, – продолжал Ганс Касторп, – литератор; вы должны в таких вещах разбираться, и согласитесь, что при подобных обстоятельствах едва ли возможно такое уж грубо прямолинейное отношение к жизни, при котором жестокость людей представляется совершенно естественной, – да, самых обыкновенных людей, знаете ли, которые вас окружают, смеются, зарабатывают деньги, набивают себе брюхо… Не знаю, так ли я…
Сеттембрини отвесил ему поклон.
– Вы хотите сказать, – подхватил он, – что раннее и неоднократное соприкосновение со смертью создает некое устойчивое душевное состояние, при котором в человеке развивается особая чувствительность и восприимчивость к грубости и беспощадности неразумной земной суеты, скажем – к ее цинизму.
– Вот именно! – воскликнул Ганс Касторп с искренним воодушевлением. – Вы совершенно точно поняли мою мысль и поставили все точки над и, господин Сеттембрини! Да, со смертью! Я же знал, что вы, как литератор…
Сеттембрини простер руку, склонив голову набок, и закрыл глаза – красивая и мягкая поза, призывавшая собеседника умолкнуть и выслушать до конца. В этой позе он как бы замер на несколько мгновений, хотя Ганс Касторп уже смолк и несколько смущенно ожидал его дальнейших слов. Наконец итальянец снова открыл бархатисто-черные глаза, глаза шарманщика, и продолжал:
– Позвольте! Позвольте мне, инженер, сказать вам и настоятельно подчеркнуть, что единственно-здоровая и благородная, а также – я особенно обращаю ваше внимание – единственно религиозная форма отношения к смерти в том, чтобы видеть и ощущать в ней неотъемлемую часть и некое священное условие жизни, но не что-то противоположное ей, здоровью, благородству, разуму и религии, что-то духовно отличное от жизни, противостоящее и враждебное ей. Древние украшали свои саркофаги символами жизни и зачатия, даже непристойными изображениями – ибо для древнего религиозного сознания священное весьма часто сочеталось с непристойным. Эти люди умели чтить смерть. И смерть достойна почитания как колыбель жизни, как материнское лоно обновления. Но когда ее отторгают от жизни, она становится призраком, страшной личиной – и даже кое-чем похуже… Ибо смерть как самостоятельная духовная сила – это в высшей степени распутная сила, чья порочная притягательность без сомнения очень велика, но влечение к этой силе бесспорно является самым жестоким заблуждением человеческого духа.
Тут Сеттембрини остановился. Высказав столь общую мысль, он решительно умолк. Говорил он не ради пустой болтовни – в его тоне чувствовалась глубокая серьезность: он не дал собеседнику прервать себя и возразить, но, заключая свою речь, понизил голос и как бы поставил точку. И теперь итальянец сидел перед молодым человеком, сомкнув уста, скрестив руки на груди, положив ногу на ногу, и, только чуть покачивая носком башмака, строго глядел на него.
Замолчал и Ганс Касторп. Откинувшись на подложенную под спину подушку и отвернувшись к стене, он слегка барабанил кончиками пальцев по стеганому одеялу. У него было такое чувство, словно ему прочли нравоучение, одернули, даже побранили, и в его молчании сквозила чисто мальчишеская упрямая обида. Пауза тянулась довольно долго.
Наконец Сеттембрини снова поднял голову и сказал улыбаясь:
– А вы помните, инженер, – мы однажды уже вели с вами подобный диспут и, можно сказать, на ту же тему! Мы болтали тогда, если не ошибаюсь, во время прогулки, о болезни и глупости, сочетание которых вы, основываясь на своем глубоком уважении к болезни, объявили парадоксом. Я же назвал это уважение мрачной причудой, которая только бесчестит человеческую мысль, и вы, к моему удовольствию, выразили готовность все же принять во внимание мои доводы. Мы говорили также о нейтральности и умственной нерешительности молодежи, о ее возможности свободно выбирать, о ее склонности производить опыты с самыми разнообразными точками зрения и о том, что подобные попытки еще нельзя – да и не нужно – рассматривать как окончательную, серьезно продуманную систему взглядов, за которую отвечаешь перед жизнью. Разрешите мне, – Сеттембрини наклонился вперед, поставив рядом ступни и зажав руки между колен, вытянул шею и слегка повернул голову вбок, – разрешите мне и в дальнейшем, – продолжал он, улыбаясь, и в его голосе даже зазвучало легкое волнение, – разрешите мне при ваших поисках и экспериментах оказывать вам некоторую помощь и влиять на вас в должном направлении, если вам будут угрожать пагубные выводы?
– Ну конечно, господин Сеттембрини! – Ганс Касторп, который все еще сидел отвернувшись, поспешил изменить свою упрямую и смущенную позу, перестал барабанить по одеялу, с несколько растерянной и торопливой любезностью обратил лицо к итальянцу и сказал:
– Это слишком великодушно с вашей стороны… И я спрашиваю себя, смогу ли я… То есть окажется ли у меня…
– И притом вполне sine pecunia, – вставая, процитировал Сеттембрини слова Беренса. – Да и кто в таких случаях себе враг! – Оба рассмеялись. Они услышали, как открылась первая дверь, вошедший тут же нажал и ручку второй. Оказалось, что это Иоахим, он вернулся после вечернего сидения в гостиной. Увидев итальянца, он покраснел, как перед тем покраснел Ганс Касторп, и его смуглое от загара лицо стало чуть темнее.
– О, у тебя гости, – сказал он. – Ты, должно быть, очень рад! А меня задержали. Уговорили сыграть партию в бридж – они называют это бриджем, – продолжал он, покачав головой, – а на поверку оказалось совсем другое. Я выиграл пять марок…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



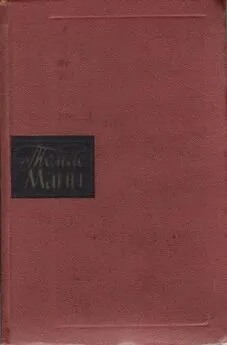
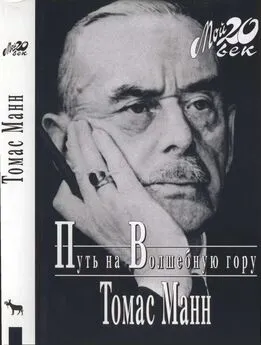
![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/441343/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz.webp)