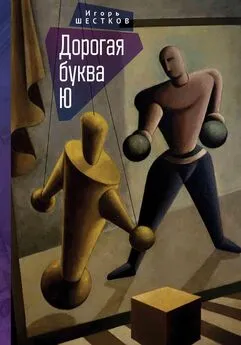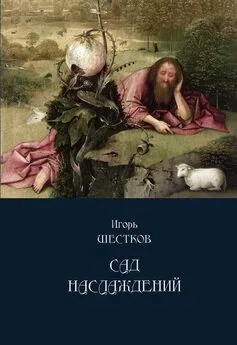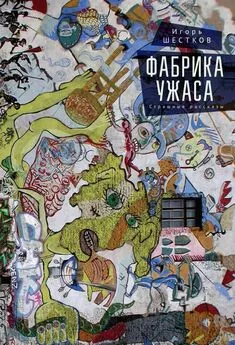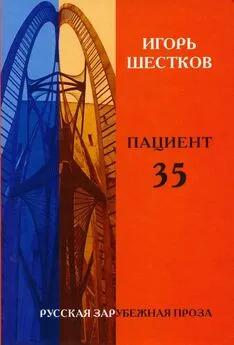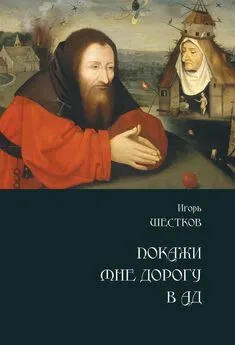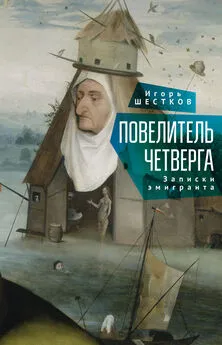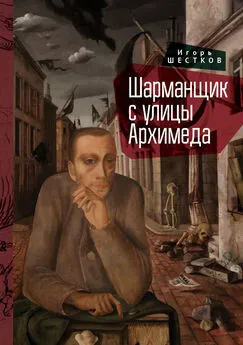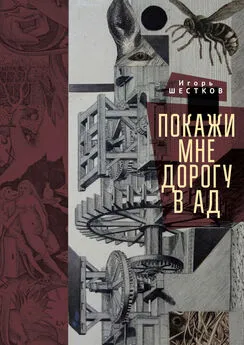Игорь Шестков - Дорогая буква Ю
- Название:Дорогая буква Ю
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2021
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-00165-276-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Шестков - Дорогая буква Ю краткое содержание
В новую книгу вошли: «Записи из Дневника писателя», критическая статья «Почему мне неприятно читать Набокова?», интервью «Литературной газете» и радиостанции «Свобода», несколько эссе: «Вокруг Носа Гоголя», «Комната, в которой нас нет», «Фотограф в Храме Гроба», «Сова», а также различные рецензии, отрывки из неопубликованной повести «Вторжение» и другие тексты. Написанные страстно и предельно искренне, тексты эти послужат важным и уместным дополнением к рассказам и повестям автора.
Мысль эмигранта кружится как спутник по экзотической траектории, напоминающей восьмерку, вокруг двух тяжелых планет — оставленной родины и остального мира. Планеты эти существуют в различных временных зонах… Через разрывы или прорехи в жизненной ткани виднеются бесплодные поля Гадеса.
Дорогая буква Ю - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
О Пастернаке: «он производил впечатление человека напуганного, чрезмерно осторожного… Его родители жили в Берлине. Правление Союза считало, что Пастернак останется с нами и войдет в наш союз. Но Пастернак держался в стороне от нас — эмигрантов — и больше склонялся к дружеским беседам с группой писателей, возвращение которых в Советскую Россию ожидалось со дня на день».
Не могу поверить в то, что Пастернак добровольно вернулся в ленинскую Москву. В лапы к НКВД. Почти всю жизнь прожил под Сталиным, пил из отравленного коммуняками источника. И умер в атмосфере хрущевской травли.
Об Аверченко: «Мы забудем русский язык! — уныло предвещал он. — Тесно… негде печатать свои вещи так, как к этому душа лежит! — безрадостным тоном повторял тот самый Аверченко, от которого несколько лет тому назад в Петрограде несло здоровьем, веселым юмором и чудовищной неутомимостью».
Прав был Аверченко. Русский язык в эмиграции вначале подвергается эрозии, а затем еще и забывается. Увы.
Пастернак где-то писал, что именно этого и боялся, и потому вернулся.
…
Ирина Астрау. «Запоздавшее счастье».
Небольшой рассказ о любви двух сестер-погодок — Тамары и Лиды — к одному мужчине, — Сигизмунду. Сигизмунд прожил лет двадцать с Тамарой, а после того, как она погибла в железнодорожной катастрофе взял в жены Лиду.
Умная, сдержанная, женская проза. Еле дочитал, так скучно.
…
Михаил Арцыбашев. «Жгучий вопрос».
И этот полемический текст (в десяти частях) не имеет отношения к художественной литературе. Начинается он так: «Каждую весну настроение подымается, и растут самые фантастические слухи. Каждую осень настроение падает и начинается общее нытье: Стоит ли надеяться и ждать, не лучше ли махнуть на все рукой и возвращаться на родину?»
Ближе к концу Арцыбашев пишет: «Кто лишениям эмигрантского существования предпочитает лишение свободы, тот пусть возвращается в советскую Россию, но о себе ведает, что он слаб и ничтожен духом. Это не осуждение. Это простое констатирование факта. Что же касается меня, то, не будучи Герценом, я все-таки останусь здесь. И даже не испытывая штамповой тоски по родине. Ибо для меня понятие родина не исчерпывается географическим пространством и этнографическими особенностями. Для меня родина — это нечто, стоящее над землею и над народом, с ними связанное, но способное отлететь от них, как душа отлетает от мертвого тела».
Понятно и правильно.
Но в конце своего текста Арцыбашев все-таки сбивается на эмигрантский штамп: «Моя родина — это русский народ, со всей его историей, с его величавым прошлым [Колья и чаны с кипящей смолой Ивана Грозного? Салтычиха? Шпицрутены?], с его культурой, с его языком, с его поэзией, с его своеобразной красотой [Иудушка Головлев? Коробочка? Бурлаки на волге?], с тем, что загажено ныне до неузнаваемости. Чужой дух воцарился над моей страной…»
Это вечное противопоставление «святой Руси, града Китежа» или, попросту царской России — и отвратительной ленинско-сталинской Совдепии доказывает мне, что русские эмигранты действительно не понимали своей страны, своего народа, не знали его истории (истории вечного самозакабаления, топтания на месте)… И даже не догадывались, что ленинщина-сталинщина — это не чужое, это одна из граней русского народа. Большевики только закончили дело… убила Россия себя сама.
…
Екатерина Бакунина. «Тело».
Это первый текст в книге, который меня раззадорил, поразил, увлек. Независимая, гордая, в меру эмансипированная писательница описывает жизнь стареющей «стандартной русской женщины в эмиграции». Уроженки Петербурга. Ныне — парижанки. Швеи. Жены. Матери. Бедную, скудную, несчастливую жизнь.
Честно говоря, никогда по-настоящему не понимал женщин. Не знал, кончают ли действительно мои жены и подруги, не знал, о чем они думают, чего на самом деле хотят, что замышляют… Для писателя эти белые пятна на жизненной карте — неприятны, некомфортны. Потому что, хочешь, не хочешь, но женские персонажи все равно разгуливают по твоему тексту. И говорят, и действуют. И, чтобы не писать чепухи, ты должен понимать женщин, должен уметь поставить себя на их место и взглянуть на мир их глазами, ощутить его их телом…
Теперь, прочитав текст Бакуниной (это часть романа), я женщин понял. Удостоверился, что мои туманные догадки не были такими уж фантастическими и абсурдными.
Героиня смотрится в зеркало. «Я видела лицо, которое совершенно не выражает того, что за ним. Между тем это мое лицо. Случайная смесь длинного ряда поколений. Я совсем не хочу иметь такое лицо. Не только потому, что оно некрасиво (некрасивая женщина — неудавшийся замысел), а потому, что в нем нет моей сущности. В круглых карих, маслянистых глазах нет ни горя, ни бунта. В спокойном состоянии они сонливы и невыразительны. В минуты отчаянье (я заметила), — глупы. Нет ничего бессмысленнее карих глаз — они всегда похожи на телячьи. Щеки уже не вырезаны правильным некогда овалом — сказываются годы… начинающий отвисать подбородок и вянущая шея. Тело еще твердое, но уже начинающее полнеть. Все это меня возмущает нестерпимым контрастом между сущим и должным. С каким остервенением я сорвала бы эту стареющую кожу, выбросила груди, колышущиеся при ходьбе, вырвала ненавистные, не такие как хочу, глаза. Родиться с неудобным женским телом и быть урезанной из-за внешности в своих возможностях! В этом есть нечто непоправимое и озлобляющее меня».
Алеша Карамазов заметил бы: «Это бунт!» А современный врач-психиатр посоветовал бы накопить денег, поехать в Бразилию, сделать там операцию, сменить пол.
Историю замужества своей героини Бакунина описывает так: «…однажды вечером, захлопнув крышку рояля, я ушла к поразившему мое воображение известному певцу и предложила ему себя с равнодушной девичьей любознательностью к тому, что будет. Певец оказался грубым, мне было больно и неприятно… Я ушла запачканной с одним желанием — не вспоминать о том, что было. Но… навязанное мне тело забеременело, певцу пришлось жениться. Это и есть мой муж. Банальная случайность, которою почти всегда бывает момент становления женщиной, обратилась в позорную и неопрятную привычку. В силу нее, я с мужем изменяю самой себе и иногда пытаюсь найти утраченную верность в случайных и редких изменах… К сожалению, я не принадлежу к числу поверхностных мужеподобных, спортивных женщин, для которых один из видов спорта — любовь — протекает легко, разнообразно и приятно».
Похоже, тут и операция бы не помогла.
«Особенно тягостна мне покорная, все выносящая преданность мужа. Женившись по необходимости, он с годами привязывается все больше и больше. Мое же отношение к нему развивается в обратном смысле».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: