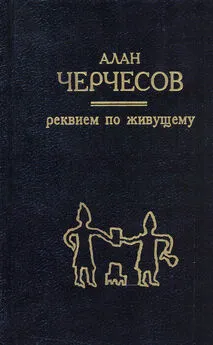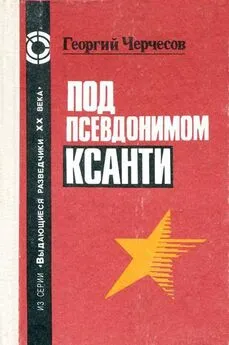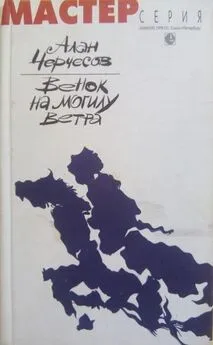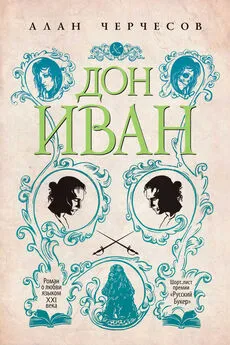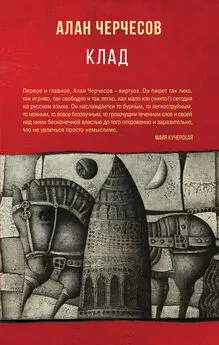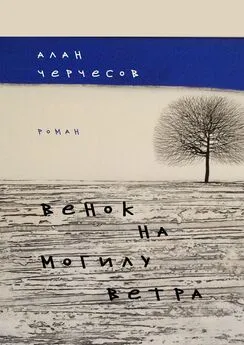Алан Черчесов - Реквием по живущему
- Название:Реквием по живущему
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство имени Сабашниковых
- Год:1995
- Город:Москва
- ISBN:5-8242-0037-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алан Черчесов - Реквием по живущему краткое содержание
Реквием по живущему - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Провидение решило иначе, потому что никакой такой любви там не было, а если и была — так лишь наполовину. Я о том первым узнал, говорил отец. Первый среди наших...
Дед твой, конечно, ни разу меня не прервал, пока я все пересказывал, и только лицом своим мучился, которое старше сделалось, бледнее (старше да бледнее цепи над очагом), тем мучился, что спрятать лица не может, хоть я ему йомогал, как умел, почти на него не взглядывая. Потом сказал мне только, чтоб в дом отдыхать шел, а сам во дворе продолжал сидеть, в сумерках тая. А как растаял, в хадзар вернулся и долго после еще ворочался, сон поджидая. Так долго, что я уже почти успел раздумать. Но когда храп услыхал, поднялся все же и выскользнул наружу, через забор перемахнул, к двери подкрался и позвал, тихо-тихо, а в душе, честно скажу, сомнение бродило, и коли тот не отозвался бы, ни за что вторично пытаться б не стал.
Но только он услышал и открыл, да и как было не услыхать, если последний гость сюда еще к ворам заглядывал, к тем, к конокрадам, а к нему лишь по делу обращались, да и то — все больше в амбар входили, а точнее — вносили туда мешки, в хадзар же вносили разве что бесчувственное от пьянки тело, задерживаясь здесь не дольше, чем требовалось на то, чтобы уложить его на худые циновки да медвежьей шкурой прикрыть. Так что и гостем я будто бы первым был, только он совсем даже не удивился: сил удивиться не было, настолько был пьян. Пробормотал: «Входи»,— и внутрь ввалился, но на ногах устоял. Потом, сидя за пустым фынгом [5] Фынг — круглый столик на трех ножках.
следил я, как шарит он ногой по полу у постели, пытаясь нащупать бурдюк, как, пошатнувшись, поднимает его и несет, осторожно обхватив обеими руками, к столу, как подсыпает огня в очаг, а после долго копается в походном худржине [6] Хурджин — переметная сума.
в поисках закуски, но не находит ничего, кроме куска стылого мяса величиной с кулак да ветхой корки чурека, как размышляет, не слишком ли стыдно их предложить, потом все же решается и кладет в центр фынга, как достает из темного угла рог, берет бурдюк и вынимает затычку зубами, а после старательно наполняет рог аракой, не расплескав при этом ни капли и удовлетворенно тряхнув головой, протягивает рог мне. И я, прежде чем выпить, произношу тост — полдюжины слов, без которых не обойтись ни на каком застолье, даже таком вот убогом и тягостном, где хозяин сам лыка не вяжет, а гость еще настолько трезв, что уж и пить не хочет — а потом сквозь проступившую на глазах влагу гляжу, как принимает он рог, наполняет его до краев, поднимает руку и говорит, и слышу я, как с уст его свисает мешанина звуков (сырая лепешка из голоса, обычая и долга перед ним, как если бы слова споткнулись в темноте о зубы и, рвясь на волю, завязли в иле языка), и я уже жалею, что пришел, и думаю о том, что голос его пьян от одного лишь вида рога сделался, что ж будет, когда он уничтожит содержимое; и делает он это — уничтожает содержимое — так медленно, как ползать умеет на своем жеребце мимо нихаса, примерно так же, но опорожняет до конца, а после, глядя мне в лицо, ищет меня мутными зрачками, и скоро найти ему удается — меня во мне,— и от такой удачи он ухмыляется, плавно разводя руками, описывает изящный полукруг и возвращает их на место, на колени. А табуретка под ним — я замечаю лишь сейчас — будто облезлое бревно на тройке сучьев, и сам сижу я на опрокинутом корявом жбане, но фынг сработан ладно, резной, и света здесь достаточно, чтобы я понял: для табурета красоту еще не подобрал, видно, еще узора не придумал. А на стене и кет ничего, кроме старого ружья — того, что стóит ему вместе с циновками семь восьмых с урожая вот уже полдюжины лет (да, говорит отец, его это вполне устраивало, и каждый сезон, пересчитав в амбаре доверху набитые мешки, он окликал твоего деда — всегда одинаково: «Следующий не хуже уродится, как полагаешь? Уж ты постарайся. Приходи через год». И дед твой согласно кивал с облегчением, словно похвале алдара — умелый работник),— ничего, кроме дряхлого ружья ценою в полдюжины теперь уж урожаев с его надела да в наше батрачество, купленное им, Одиноким, на наше же ружье полдюжины раз подряд; и ничего, кроме нескольких турьих шкур; кроме полок пустых, без всякой посуды. Вся посуда тут, на столе, и пара мисок — у постели.
«Ешь,— приказывает он.— Угощайся». И режет мясо кинжалом, и я отщипываю от чурека, и вкус ничуть не лучше запаха перегара, которым я был встречен. И, выливая в рог остатки араки (я слышу капли, сменившие струю, и думаю злорадно: так-то лучше), он досадливо морщится: «Не хватит». А я не отвечаю, и он упрямо повторяет: «Мне не хватит. Может, раздобудешь у себя?» — «Нет,— говорю.— Не сейчас. Я не затем пришел». А он все хлопает глазами, и видно, как упорно хочет разбудить свой голос. Но я уже не верю, что получится, и говорю: «Пожалуй, малость опоздал я». А он плечами пожимает и чурек жует. А прожевав, говорит, и я перевожу это в слова: «Ладно. Как скажешь. Я не задерживаю». И я встаю и направляюсь к выходу, и слышу вслед: «Ты пожалеешь». Он стоит уже и даже не шатается. «Ты больше не придешь. Не сможешь...»
Но только он ошибается, и через час я возвращаюсь, я почти бегу и не задерживаюсь больше на пороге — нет времени: мне надо поспеть до рассвета,— и тормошу обмякшее тело, схватив его за грудки, давлю подступающую к глотке тошноту от невыносимого перегарного духа, и начинаю шепотом, но очень скоро едва не срываюсь на крик и повторяю в тупое, отекшее от сна лицо: «Я был там!.. Я видел... Я знаю!..» — повторяю до тех пор, пока не искажается оно от боли, пока не приподымаются веки. Тогда бегу я к очагу и ворошу под золой непослушные угли, а после снова трясу за грудки и шепчу (а может, кричу, а может, прошу, умоляю), «Сперва ты рисовал утес... Потом придумал лань. Я знаю!.. Ты увидел девчонку и нарисовал на утесе лань... И прятал ото всех, но как-то раз не выдержал и подстерег ее, и показал ей... Просто развернул и показал. Ведь больше ничего не нужно было! И даже слов. Она бы и так поняла. Но ты сказал ей, кто такая лань. Ведь ты сказал ей?.. И отравил ее своей любовью, но испугался в то поверить и сбежал в крепость, чтобы продать там этот страх — страх за свое одиночество... или страх за то, что не сможешь его обменять, ты же знал, что Сослан не позволит!.. Ты струсил, но не сознался в том себе!.. Ты струсил впервые, а потому испугался еще в своей трусости и решил положиться на случай, и взял с собой в крепость еще и другую — ту, с водопадом,-— и предоставил право выбора судьбе, и судьба (какой-то чертов лавочник, никогда до того и не слыхавший про наши края, но купивший скопом их красоту заодно со страхом твоим) выбрала лань на утесе, но только ты и представить себе не мог, что выбирает она разом в двух местах!.. Ты не мог и представить, что судьба — это не только лавочник, это еще и девчонка, поверившая в то, что она лань, желавшая тебе Доказать, что она больше лань, чем чья-то дочь... Теперь я знаю все! Только вот в голове не укладывается, зачем тебе понадобилось говорить ей, что едешь в крепость?.. Зачем ты ей сказал, что едешь продавать картину? Скажи, зачем?!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: