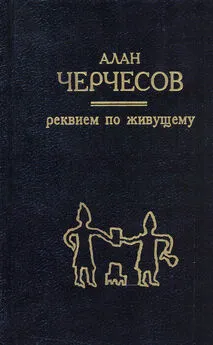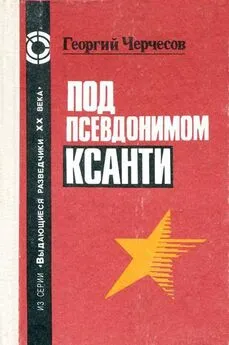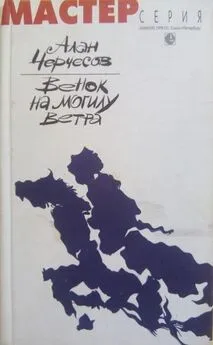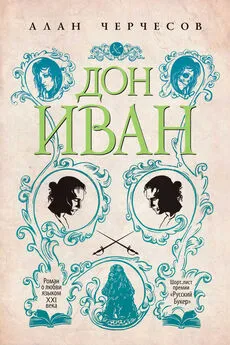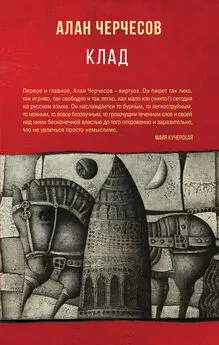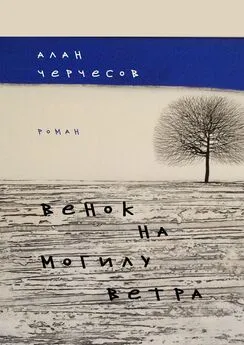Алан Черчесов - Реквием по живущему
- Название:Реквием по живущему
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство имени Сабашниковых
- Год:1995
- Город:Москва
- ISBN:5-8242-0037-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алан Черчесов - Реквием по живущему краткое содержание
Реквием по живущему - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
[1] Афсин — старшая женщина в доме.с невестками и детворой усадили в бричку, а старик и два других сына отправились на конях, трех из пяти похищенных, лучших во всем ущелье. И, говорят, когда бежали, никто им даже слова не сказал, чтоб не грешить против своих языков и ушей, только вслед им глядели до самого поворота, благо что рассвет позволял. А потом разошлись по домам и стали ждать. И через несколько часов дождались и встретили в их дворе десять всадников, пять из которых были братьями и за одну ночь не только лишились своих коней, но еще и прошагали пешие полтора десятка верст, а потом не меньше того проскакали верхом на одолженных кобылах. И вот тогда, я думаю, глядя на них и прочитав в глазах обреченность, тем, другим, беглецам, позавидовали все. Честные нередко завидуют ворам, особенно таким удачливым, хотя и не сознаются в том, подменяя зависть презрением. Только презрение с завистью — все одно как мясо с солью, самое обычное дело. Так что когда те сказали, что за перевалом у них уже и без того есть кровники, беглецам позавидовали все, ибо воры они были удачливые. И пусть, как говорил мне дед, они дом да землю бросили — для настоящей жертвы этого мало. Для настоящей жертвы, говорил он, потеря нужна, а они ее на коней обменяли, еще и лучших в ущелье. Да и земли той было столько, что бурку уронишь — весь участок под ней спрячется. Так что потери не было, а если и была — в дороге ее запах выветрился. Ветер ворам всегда в спину дует.
Вот что дед говорил. И значит, воры они были удачливые. Это уж я сам для себя вычислил.
И, выходит, возненавидели их, воров, пуще прежнего, утрешнего, и ненависть та была похлеще молчания, которым их провожали, однако все ж таки не сильнее той, что глядела на наших с чужих кобыл, одуревшая от стольких верст впустую и вдобавок освидетельствованная ими, нашими, в своей обреченности. И посему эта вот вторая ненависть, молчавшая с одолженных кобыл, была куда опасней собственной, гасимой завистью и подогреваемой желанием ее скрыть, не заметить, отторгнуть — зависть то есть,— отречься от нее, а заодно и от всей этой истории, родившейся и удавшейся на той самой земле, где никто из наших никогда до того не крал и даже не мыслил, что кому-то это может удаться да и еще так здорово, по-настоящему, безнаказанно и ловко. И чтобы пресечь ее, эту опасность, а по большому счету — то свою зависть и признание в ней,— нужен был шаг, поступок, слово, что-нибудь, что выглядело бы по меньшей мере если не полезным, так безвредным, не благородным — так хоть не трусливым, но главное — было бы шагом. Тогда-то старик Ханджери и позвал их в свой дом, отгородившись обычаем от той опасности и превратив десять обозленных мужчин сперва в десять уставших путников, а потом уж и в десять присмиревших гостей.
Тогда-то всему бы и кончиться — не для тех, конечно, не для чужаков,— для наших, закончиться для аула, уже откупившегося, потому как Ханджери сразу сказал им, тем десятерым, про землю и дом, что, мол, теперь они по праву принадлежат гостям, а вовсе не аулу и уж тем паче не прежним хозяевам, что, мол, пусть мы землей и не богаты, зато чтим законы и справедливость, что у тех, у воров, даже родни тут нет, так что никто здесь за них не в ответе, кроме разве их собственных стен и надела, что всевышний покарает отступников и что человеку дано уповать на небеса — в общем, сказал все то, чего мог бы и не говорить, что было и так ясно с самого рассвета, а теперь уж спускались сумерки. А что будет после, мог бы рассказать любой: от дряхлого старика до младенца, если только боги не лишили первого памяти, а второго снабдили речью, о том мог бы рассказать и я, хоть родился на пятнадцать лет позже, если только я сын своего отца и внук своего деда, если только во мне течет половина крови одного и четверть крови другого, а предсказать чтобы — там хватило бы и капли ее. Так что теперь они должны были бы подняться и уйти, отклонив приглашение переночевать и поблагодарив за стол и пищу. И они бы снова сели на одолженных кобыл — пять из них — и проделали бы еще раз путь в пятнадцать верст к своему дому, дабы вернуться опять сюда уже засветло, с инструментами и арбой, чтобы грузить туда плитняк с чужого хадзара, подменяя работой несложившуюся месть и отвлекая от беды собственные руки. Так должно было быть, и все думали, так оно и будет. И они, те десять, уже готовы были подняться и уйти, и уже успели отклонить приглашение остаться, и уже сказали последний тост, и даже опустошили роги, но тут-то оно и случилось.
Нет, я не хочу сказать, что о его сиротстве кто-то забыл или не помнил. Помнили как раз всегда, а потому, наверно, и не вспоминали с тех самых пор, как обоз со всей семьей скрылся в молчании за поворотом. Но теперь-то вмиг вспомнили, едва увидели его посреди двора Ханджери с заломленными за спину руками, в дорожной пыли, ростом чуть выше собственной тени на стоптанной земле. И страх в глазах был куда больше и этой тени, и этого роста, и сукровицы в небе от подраненного горами солнца. И когда вспомнили, им уже не нужно было объяснять, где его нашли и почему он вернулся. Где ж еще могли его найти, как не у надгробий из каменных плит, и зачем еще он мог вернуться, как не за этим самым? Так что причина стала ясна почти тут же. Было только не очень ясно, где он спрятал коня. Но и с этим скоро выяснили, хотя он, мальчишка, говорят, так и не сознался, упорствуя в своем воровстве и ошалев со страху. И когда сын Ханджери отыскал коня в сумерках за поворотом и привел его, оседланного, во двор, и передал уздечку старшему из тех десяти, и тот сел на него, на коня, дважды за неполные сутки похищенного, но так, по сути, и не угнанного, мальчишку привязали к одной из кобыл, теперь свободной, и повезли туда, где поклялись через три дня прикончить, коли к первому, тому, что под хозяином, не прибавятся еще четыре, как оно и было с самого начала. Только Ханджери им прямо тогда и сказал, что тому не бывать, что воры, мол, в капкан не попадают и все такое, что тот, мол, сирота, несмышленыш и сын достойного отца, и чуть ли не младше собственных лет и лишь умнее собственного разума, и в конце концов, пусть не желая, но вернул хотя бы одного из пяти, и потому надо бы отпустить. А старший из тех не согласился и тоже прикрылся обычаем, как сам Ханджери пару часов назад, только, конечно, это был уже другой обычай, известно какой. Похоже, обычаи в таких делах лишь на то и существуют, чтобы ими прикрываться, все равно как бушлатом от ветра, прикрыться — да голос изнутри подавать. В общем, мальчишку наши не отстояли. И, конечно, мало кто верил в то, что мальчонку убьют или, как положено, хотя бы надрежут ему ухо. И, видимо, большинство склонялось к мысли, что быть ему холуем иль батраком. И уж, конечно, все поголовно были уверены, что там, у них, он и останется — так ведь должно было произойти при любом раскладе. А потому, стало быть, на том истории бы и кончиться — для нашего аула и для тех, других, тоже. Но только я уже говорил, что обычным он не был. Тут, пожалуй, обычное в нем и сносилось, будто дряхлая одежка. Или как время состарилось. Так ведь оно бывает: живешь да дышишь, а потом вдруг внезапно почуешь, что только что ушло оно, отодвинулось, оторвало тебя от себя самого и даже дало словно со стороны взглянуть, пусть ты того и не желал, но вот уже смотришь сбоку на себя бывшего и ничего с этим поделать не можешь. Время устало и сносилось, отойдя добровольно в прошлое, а на смену уж новое подступило и обнюхивает тебя сослепу жадными ноздрями. Ведь так оно бывает — что для каждого, что для всех,— разве что редко когда для всех и каждого. Только через три дня именно так оно и произошло — со временем: всех и каждого задело, потому как через три дня он вернулся — с ножом заместо кинжала да маленькой корзинкой с едой — и поселился в пустом хадзаре, куда теперь и кошки не заглядывали. Тот, старший из десяти, сам его привез на той арбе, что славно потрудилась, отбирая у хадзара день за днем надстройку и плитняк. Выходит, он, старший, тоже не особо верил в чудо, скорее, раньше других увидел отслоившееся прошлое и за трое суток свыкся с ним или по крайней мере столковался с тем новым, что пришло взамен. А потом кто-то из них — мальчишка или он, старший,— решил им поделиться и запрячь в арбу мула и, уж не знаю, в какой раз проделать расстояние в уйму верст для того лишь, чтобы покончить со всем этим, а значит, начать с него другое. Так что для аула кончилось совсем не так, как думали и ждали, и сосем не с того началось, на что рассчитывали теперь наши, наблюдая молча, как мальчишка кивает им, а затем не спеша входит в пустой двор и оттуда — в пустой хадзар, уже несвежий, спрыснутый сыростью и так же к тому не готовый, как и сам аул, изумленный и тщетно цепляющийся за скользкий кусок отколовшегося времени. А потом, и часу не прошло, все глазели на то, как он, мальчишка, выходит со двора, поворачивает и идет к соседнему, к нашему то есть, зовет моего деда и говорит тому про ружье без свинца и пороху и урожай, а дед сперва только смотрит, ничего не говорит, а потом, конечно, не удерживается и спрашивает, для чего, мол, а тот, чуть выше собственной тени на дедовых сапогах, хмурится и злится, и грозит предложить кому другому, кто посговорчивей, и дед уже почти не колеблется, прикидывает — сам про то часто повторял,— сколько будет шесть седьмых с урожая, пусть не собранного еще, но во всяком случае уже сейчас больше, чем старое ружье без пороху, и даже больше стыда за неравную сделку, и идет в дом, и выносит, а тот толком и держать-то его не умеет, но забирает и гордо шагает обратно, ни разу не повернув головы и не отвечая на взгляды. А на следующее утро, чуть ли не с рассветом, снова останавливается у наших ворот и снова кличет деда, чтобы сказать, что ошибся. Восьмая часть, говорит, мне нужна только восьмая, а не седьмая с каждого обмолота, но зато теперь будут еще каре и циновки. И дед опять идет в дом и опять выносит, и тот берет их особо и не разглядывая, и исчезает за сырыми стена;, и. Потому как, говорит, дыма они не видели. Шесть дней дыма не было, и два дня из шести он оставлял на пороге нетронутой миску с едой, и потом тоже оставил, только уже к вечеру и — пустую. И, говорят, в глазах его не было ни злобы, ни тепла. Уже тогда его назвали Одиноким, да так оно и привилось, оттеснив имя, о котором и прежде-то мало кто помнил: разве упомнишь имя всякого мальчишки? А когда обычное кончается, тут уж и имя не особо нужно, имена рассчитаны на других, на нормальных. Но через шесть дней он заставил их понять, что и этого мало. И тогда они придумали еще: Мужчина-мальчик. Потому как через шесть дней он появился на улице с подвязанным к пояску ножом и двинулся вверх по аулу. Он подошел прямо к нихасу [2] Нихáс (ныхáс) — букв, «беседа». Место собрания, где старейшинами родов аула обсуждались текущие события и дела и принимались важнейшие решения.
, но остановился, лишь когда приблизился к ним вплотную. А они, наши, еще ничего не поняли, и потому, говорят, ему пришлось трижды их поприветствовать да потом еще сказать про огонь в ожившем очаге (дыма над его хадзаром они поначалу и не заметили, а когда наконец увидели да осознали, поднялись с нихаса — старейшие старики аула — и приняли, и указали место на почетной скамье, и он сел, и уж после — вот еще штука!— только после него сели остальные. И, говорят, никто из них не рассмеялся, потому, мол, что глаза им его не позволили, и уж не знаю, смеялся ли кто потом).
Интервал:
Закладка: