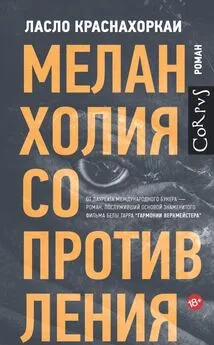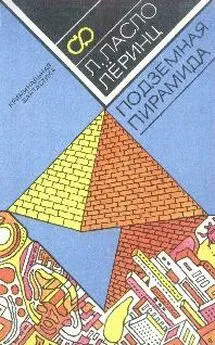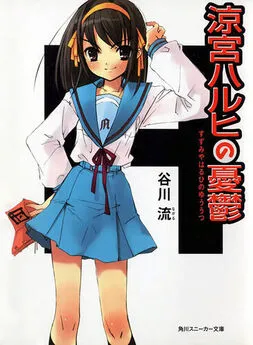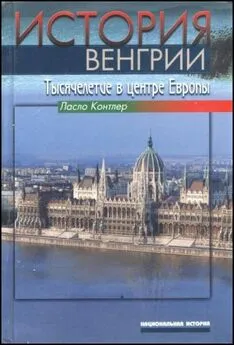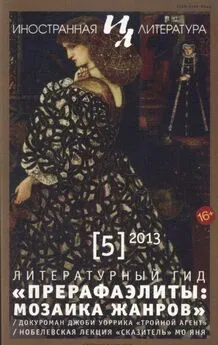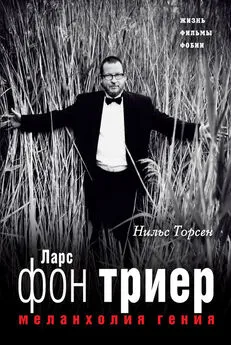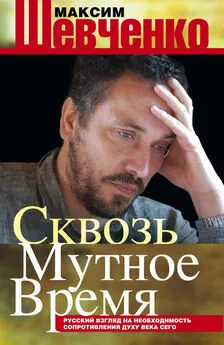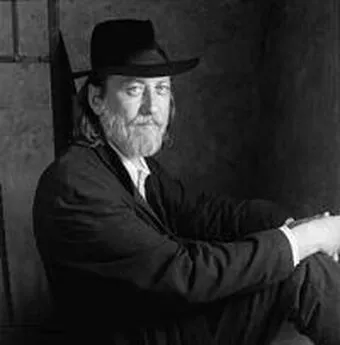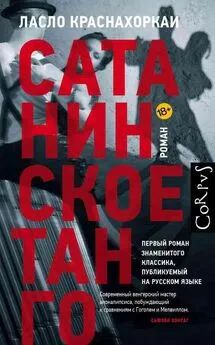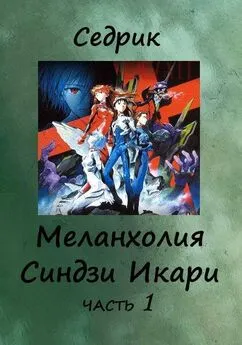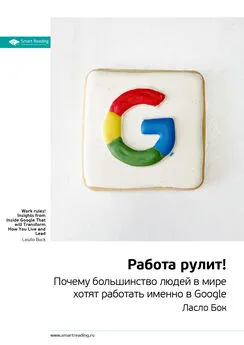Ласло Краснахоркаи - Меланхолия сопротивления
- Название:Меланхолия сопротивления
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Corpus
- Год:1989
- ISBN:978-5-17-112572-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ласло Краснахоркаи - Меланхолия сопротивления краткое содержание
В России писатель получил известность после выхода романа «Сатанинское танго», за который в 2019 году он был включен в число претендентов на литературную премию «Ясная Поляна» в номинации «Иностранная литература».
Книга содержит нецензурную брань.
Меланхолия сопротивления - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Прищурившись в полумраке, Валушка растерянно улыбнулся, а господин Эстер, слишком хорошо знающий взбудораженное воодушевление, которое неизменно сопровождало его появление, одновременно приветственным и успокаивающим жестом велел ему сесть на привычное место за курительным столиком и, пока его молодой друг отогревался от внешнего мороза и остывал от пылающего внутреннего восторга, попытался отвлечь гостя много раз передуманными стариковскими рассуждениями. «Снега больше не будет», – без предисловий заговорил он, явно обрадованный тем, что может вслух продолжить ход своих одиноких мыслей и в то же время суммировать все, к чему нынешним утром, после того как покончил в отведенное для этого время с утренним туалетом и дождался, когда, к его величайшему облегчению, квартиру покинет госпожа Харрер, он пришел «относительно состояния мира на данный момент». Конечно, он мог бы подняться, чтобы убедиться самому в справедливости последнего откровения, либо попросить об этом сидящего в кресле взволнованного гостя, только это был бы не он, потому что раздернуть тяжелые шторы и уставиться на безрадостный мертвый пейзаж, наблюдая, как, петляя под налетающими порывами ледяного ветра, проносятся в кладбищенской тишине меж застывших домов обрывки газет и бумажных пакетов, то есть выглянуть, посмотреть в огромное, явно созданное для другой эпохи окно, он полагал делом совершенно бессмысленным, и не только по той причине, что в борьбе с ненужными телодвижениями ему не было равных, но и потому еще, что абсурдным казалось само допущение, будто главное, что могло взволновать его сразу после пробуждения, был вопрос, а пошел ли уже на улице снег, – ведь даже отсюда, из своей кровати, изголовьем обращенной к окну, обе створки которого были задрапированы самым тщательным образом, он мог констатировать, что этой, бесповоротной уже, зимой они не дождутся не только рождественского покоя и радостного благовеста, но даже и снега, – разумеется, если можно назвать зимой беспощадное царство голого холода, в котором последним беспечным развлечением Эстера было решение головоломки: что первым придет в негодность, жилец или его жилище. Что до последнего, то оно каким-то образом все еще стояло, невзирая на то что госпожа Харрер, которой было поручено на рассвете затапливать печь – и более ничего, – раз в неделю под видом уборки, вооружившись веником и тряпками для сметания пыли, занималась внутри той же разрушительной деятельностью, какой снаружи занимался мороз. Лихо размахивая вокруг себя тряпкой, она резво и боевито, разрушительным ураганом носилась туда и обратно по коридору, по кухне, по столовой и задним комнатам и, расшвыривая безделушки, передвигала с места на место, мыла и терла и без того едва державшуюся на ножках, потрескавшуюся и рассохшуюся мебель и с регулярностью раз в неделю, под предлогом ухода за тончайшим фарфором из берлинских и венских сервизов, непременно что-нибудь разбивала, чтобы затем, как бы в награду за бескорыстные благодеяния – к вящей радости местного антиквара – оделить себя то серебряной ложечкой, то какой-нибудь книжкой в сафьяновом переплете, словом, госпожа Харрер без устали что-то подметала, мыла, протирала и переставляла в доме, пока атакуемое снаружи и изнутри здание не пришло в состояние, когда все оно, можно сказать, держалось уже только на просторной – тоже предаварийной, но все-таки сохранявшей свой изначальный вид – гостиной, единственном помещении, порог которого «криворукая радетельница уюта» не переступала («Потревожить господина директора?! Когда он работает?!») ни при каких обстоятельствах. Но, конечно же, приказать госпоже Харрер ограничиться только тем, для чего ее нанимали, было невозможно, ибо Эстер, не любивший грубости, приказной стиль полагал для себя неприемлемым и старался его избегать, а кроме того, было ясно, что женщина – если уж у нее нет доступа к нему и его окружению – под влиянием загадочного синдрома навязчивой добродетельности продолжит свою борьбу с еще уцелевшими предметами обихода невзирая на все запреты, так что пришлось ему, хозяину дома, в качестве убежища удовлетвориться одним помещением, и это его устраивало, ибо здесь, благодаря слухам – которые распространялись по всему городу и держали в узде даже госпожу Харрер – о мнимых его музыкальных штудиях, он не только не должен был беспокоиться о хрупкой целости и сохранности обстановки, но и мог быть уверен в том, что, опять же благодаря упомянутому заблуждению, ничто не грозит помешать его настоящей борьбе или, по его словам, «генеральному отступлению перед лицом беспросветной глупости так называемой человеческой истории». В печке, стоявшей на стройных, из гнутой меди ножках, как принято говорить, весело полыхало пламя, и именно эта печь была здесь единственным, пожалуй, предметом, который не сразу выдавал, что и его безвозвратно переварило время, ибо некогда благородные персидские коврики, шелковые обои на стенах и свисающая из ломаной гипсовой розетки не нужная никому хрустальная люстра, два резных кресла, софа и курительный столик с мраморной столешницей, венецианское зеркало, потускневший дряхлый «Стейнвей», а также бесчисленные думки, пледы и разного рода безделушки, словом, эти унаследованные от прошлого предметы семейной гостиной, все и каждый в отдельности, давно уже прекратили бессмысленную борьбу со временем и если не развалились еще на части, то, скорее всего, только благодаря укрепляющему воздействию многолетнего слоя пыли и сдерживающей силе постоянного, мягкого, почти незаметного хозяйского присутствия. Неизменное это присутствие и невольный присмотр вовсе не означали, однако, уверенного господства здоровья и жизненной силы над окружением, ибо в наиболее плачевном состоянии находился как раз безвылазный обитатель двуспальной, лишенной былых украшений кровати, перекочевавшей сюда из спальни, то есть он сам, лежащий среди взбитых подушек мужчина, чье худое, как щепка, тело, только из деликатности называемое поджарым, медленно, но уверенно разрушал даже не бунт, сам по себе объяснимый, внутренних органов, но постоянный протест против сил, пытающихся тормозить их естественную и бурную деградацию, иными словами – безжалостное решение духа, по какой-то причине обрекшего себя на комфорт бездеятельности. Он лежал неподвижно, держа вялые руки поверх одеяла, потраченного молью, и именно это оцепенение и эта вялость точнее всего отражали общее состояние его организма – а именно то, что в действительности его изнуряли не боли в спине, не начинающаяся болезнь Шейермана и не какой-то иной, грозящий внезапной смертью недуг, нет, его состояние было скорее тяжелым следствием апатии и вечного лежания в постели, не пощадивших ни его мышцы, ни кожу, ни аппетит. Это был протест организма, плененного одеялами и подушками, физической его части, потому что ни упорное принуждение себя к покою, прерываемому в последнее время только появлениями Валушки да утренними и вечерними ритуалами, ни окончательное самоустранение от каких бы то ни было дел не могли подорвать его силу воли и душевную стойкость. Об этом свидетельствовали его ухоженные седые волосы, стриженые усы и безупречно подобранный ансамбль повседневной одежды – брюки с манжетами, накрахмаленная рубашка, аккуратно повязанный галстук и темно-бордовая домашняя куртка, но прежде всего говорили об этом его голубые глаза, непреклонно сиявшие на бледном лице, и вообще первозданная острота его зрения, способность, окинув взглядом себя и свое погибающее окружение, тотчас же уловить за своей холеностью и за хрупким очарованием и изяществом своих вещей мельчайшие новые признаки продолжающегося распада, ибо он ясно видел, что все сущее соткано из одной субстанции, из благородной и легко улетучивающейся сущности – никому не нужной формы. С такой же остротой чувствовал он не только связь между хозяином и его владением, но и глубинное родство, которое, несомненно, существовало между мертвым покоем гостиной и безжизненным холодом внешнего мира: словно неумолимое зеркало, вечно показывающее одно и то же, небо бесчувственно отражало поднимающуюся от земли безутешную грусть, и в сумерках, день ото дня делающихся все мрачнее, раскачивались на шквальном ветру облетевшие каштаны, уже приготовившиеся к тому, чтобы окончательно вывернуться из земли; дороги и улицы были пустынны, «как будто осталось дождаться только бездомных кошек, крыс и толп погромщиков», за городом же безвидность и пустота равнины ставила под сомнение трезвость всякого, кто вознамерится остановить на ней взгляд, – чем другим могла отвечать на это безрадостное убожество, на эту заброшенность и пустынность гостиная господина Эстера, как не своей пустыней, не иссушающим излучением усталости, разочарования и той одержимости, с которой хозяин приковал свою плоть к постели, – излучением, которое, проникая сквозь панцирь цвета и формы, разрушает повсюду, от пола до потолка, живую сущность древесины и ткани, стекла и металла. «Снега больше не будет, – опять констатировал он и, бросив на гостя, нетерпеливо елозившего в кресле, спокойный умиротворяющий взгляд, подался вперед, чтобы расправить сбившееся у ног одеяло. – Не будет, – опустился он на подушки. – Конвейер по производству снега остановился, так что с неба не упадет больше ни одной снежинки, и вы, мой дорогой друг, – добавил он, – отлично знаете, что это, по правде сказать, еще не самое страшное…»; еле заметным движением руки он дал понять почему – совсем легким жестом, ибо уже много раз объяснял: эти ранние убийственные морозы, ударившие после засушливой осени, и ужасающее отсутствие всяких осадков («О блаженные времена, когда дождь лил не переставая!») всего лишь, подобно ударам колокола, доводят до нас непреложный факт, что природа, со своей стороны, тоже остановила свою упорядоченную работу, что братский союз Неба и Земли раз и навсегда расторгнут и теперь, видимо, начался одинокий полет по орбите, усеянной мусором от наших, рассыпавшихся к чертям собачьим, так называемых законов, «и все кончится тем, что мы будем стоять, дрожа на холоде, изумленно и тупо, как нам и положено, наблюдая за тем, как от нас удаляется свет». По утрам, уходя, госпожа Харрер в щелочку приоткрытой двери снабжала его день ото дня все более абсурдными слухами – то о раскачивающейся Водонапорной башне, то о чудом пришедших в движение шестеренках часов на церковной башне (а на этот раз, разумеется, она не преминула рассказать о «сборище адских отродий» и о каком-то дереве в переулке Семи вождей), но во всем этом он не видел уже ничего удивительного и ни минуты не сомневался, что все сказанное – невзирая на очевидную недалекость вестницы – является истинной правдой, лишь подтверждая то, о чем он и так вынужден был догадываться, а именно что вере в наличие связей между следствиями и причинами, в иллюзию, будто возможно предвидеть события, и, стало быть, «в существование разума» наступил конец. «Мы потерпели провал, – продолжил господин Эстер; он окинул глазами гостиную и остановил взгляд на вылетающих из печки и стремительно гаснущих искрах. – Полный провал во всех наших мыслях, делах и фантазиях, равно как и в жалких попытках понять, почему так случилось; бросили псу под хвост Бога, растоптали дисциплинирующее уважение к чести и достоинству, отказались от слепой, но во всяком случае благородной веры в то, что каждый из нас будет взвешен и найден тем более легким, чем большее расстояние будет отделять его от древних десяти заповедей… иными словами, мы провалились, опозорившись на все мироздание, в котором, надо думать, нам больше нечего делать. В народе, – с улыбкой глянул он на Валушку, мечущегося между желанием высказаться и необходимостью вежливо слушать, – если верить этой болтушке Харрер, идут разговоры об Армагеддоне, о Страшном суде, потому что им невдомек, что никакого суда, никакого Армагеддона не будет… в этом нет никакой нужды, все схлопнется и без этого, схлопнется, чтобы начаться сначала, и так будет до бесконечности, потому что, наверное, с этим дело обстоит точно так же, – поднял он глаза к потолку, – как с нашим беспомощным блужданием по вселенной, которое, однажды начавшись, не остановится уже никогда. От этого, – Эстер закрыл глаза, – кружится голова и охватывает тоска; боже праведный, какая охватывает тоска человека, которому удалось избавиться от иллюзии, будто в этом кромешном круговороте созидания и распада, рождения и смертей угадывается какой-то определенный план, какой-то гигантский и восхитительный целеустремленный замысел, а не холодное, слепящее своей однозначностью механическое движение… Конечно, возможно… что изначально… какой-то замысел был, – взглянул он опять на беспокойно зашевелившегося гостя, – однако сегодня об этой юдоли исполнившейся печали нам лучше бы помолчать, дабы не бередить смутную память о том, кому мы всем этим обязаны. Да, лучше нам помолчать, – повторил он несколько более звонким голосом, – а не прояснять безусловно благие намерения бывшего нашего патрона, ведь о том, для чего он нас создал, мы гадали уже предостаточно и, как видим, ни к чему не пришли. Ни к чему не пришли ни в этом, ни в чем другом, потому что, и я говорю это не случайно, столь желательной прозорливостью наградили нас скуповато: зуд любознательности, вновь и вновь побуждавший нас разобраться в реальности, скажем прямо, к большим успехам нас не привел, а если мы иногда и докапывались до какой-нибудь ерунды, то нам это выходило боком. Если будет позволена мне такая дрянная шутка, представим себе, – провел он рукой по лбу, – первого человека, который подбросил вверх камень. Бросает он камень, тот падает, вот здорово, думает человек. Но что происходит дальше? Этот камень однажды шарахает человека по голове. Так что поосторожней надо с любознательностью и всяческими экспериментами, – мягко предостерег своего друга господин Эстер. – Лучше нам удовольствоваться пусть жалкой, зато неопровержимой истиной, которую все мы, за исключением только ангельских, вроде вашей, натур, ощущаем собственной шкурой, а именно что в этом, вне всяких сомнений замечательном, мироздании мы являемся просто жертвами маленькой неудачи и что вся человеческая история, если вспомнить авторитетный источник, это повесть, в которой много шума, страстей и крови и которая рассказана фигляром, кривляющимся в дальнем углу необозримой сцены, или, если хотите, история есть своего рода вынужденное признание в заблуждении, медленное и мучительное признание того факта, что это создание получилось не слишком удачным». Он потянулся к ночному столику за стаканом, глотнул воды и, бросив пристальный взгляд в сторону кресла, не без тревоги заметил, что его преданный посетитель, который давно уже перерос роль самоотверженного помощника, сегодня выглядит беспокойнее, чем обычно. Придерживая одной рукой поставленный чемодан, а в другой судорожно сжимая какую-то бумажку, Валушка сидел в своей неизменной, с раскинутыми сейчас полами, казенной шинели и как бы выглядывал из собственной тени; внимая тихому потоку его рассудительной речи, он все больше колебался, не зная как быть: выслушать ли, как обычно, преданно, до конца своего престарелого друга, как велела ему заботливая сострадательная натура, или тут же – как бы в утешение и тоже по обыкновению – поведать ему о великом своем потрясении, которое он пережил во время ночной или, точнее сказать, предрассветной прогулки в поднебесных кущах? Подчиниться обоим этим побуждениям одновременно он явно не мог, и все это, вся эта нерешительность и растерянность, нисколько не удивляли Эстера. Он привык, что Валушка всегда влетал к нему в комнату словно на крыльях, в радостном возбуждении, равно как, в свою очередь, и Валушка свыкся – словно с какой-то важной традицией – с тем, что пока он хоть немного не отойдет от «невыразимой радости космических переживаний», его развлекает горьким юмором своих строгих суждений господин Эстер. Так было между ними уже много лет: Эстер говорил, Валушка слушал, чтобы затем – как только на лице успокаивающегося гостя появится наконец первая мягкая улыбка – хозяин с готовностью передал ему слово, поскольку речи, которыми с «блистательной слепотой и непорочным очарованием» отвечал ему молодой почитатель, смущали Эстера не содержанием, а скорее только начальной пылкостью. Вот уже почти восемь лет его посетитель каждый полдень и в конце дня сбивчивым от волнения голосом рассказывал ему одну и ту же историю – нескончаемую фантасмагорическую эпопею о планетах и звездах, о солнечном свете и ускользающей тени, о беззвучной работе вечно вращающихся небесных тел, которая, словно «немое свидетельство непостижимого разума», очаровывала Валушку во время его беспрестанных ночных блужданий под небесами, с некоторых пор окончательно скрывшимися за тучами. Что касается Эстера, то он о небесных вопросах предметно никогда не высказывался, хотя частенько, дабы разрядить атмосферу, шутил об этом «вечном вращении» («Ничего удивительного, – как-то лукаво сощурился он, повернувшись в сторону кресла, – что за столько тысячелетий на этой вечно вращающейся Земле люди так и не пришли в себя, – ведь все их внимание направлено только на то, чтобы просто не шмякнуться задницей…»), однако позднее он стал избегать и таких необдуманных шуток, причем не только из опасения повредить хрупкий универсум Валушкиного воображения, но и по той причине, что считал неправильным оправдывать жалкое состояние наших бывших и будущих сожителей по планете необходимостью – «вообще-то и правда малоприятной» – постоянно где-то болтаться. В многосложном порядке их собеседований Небо, стало быть, целиком, в том числе и в буквальном смысле, принадлежало Валушке: ведь мало того, что из-за плотной пелены туч его давно уже не было видно (а значит, и апеллировать к нему не вполне уместно), тот космос, в котором жил Валушка, по убеждению Эстера, не был связан с реальностью; он был уверен, что это всего лишь воображаемый образ вселенной, придуманный очень давно – возможно, когда-то в детстве, – который затем превратился в его личное царство, в принадлежащий только ему – и, конечно, волшебный – мир, где, по его простодушной вере, существовал божественный механизм, «тайным двигателем которого были чудеса и невинные грезы». Обитатели города – «в силу своей врожденной испорченности» – считали его обыкновенным придурком, однако Эстер (хотя он понял это далеко не сразу после того, как Валушка попал в его дом в роли доставщика обедов и неоценимого помощника во всевозможных делах) нисколько не сомневался, что этот чудаковатый странник по призрачным галактикам своей наивностью и обескураживающей, вселенской, можно сказать, добротой в действительности подтверждает «ангельское присутствие даже в убийственных условиях глубочайшей дезинтеграции». Присутствие, разумеется, лишнее, добавлял тут же Эстер, тем самым указывая не только на ничтожность и незначительность этой роли, но и на тот способ, каким он смотрел на нее, – на свое рафинированное исследовательское внимание, усматривающее в этой доброте и невинности просто некое убранство, призванное украшать то, чего, без сомнения, нет и никогда не существовало, то есть некую странную, бесполезную и ниоткуда не выводимую форму, которая – как всякая роскошь и всякое излишество – «не имеет ни оправдания, ни объяснения». Он любил, как может влюбиться одинокий коллекционер в какую-нибудь необычную бабочку, эту невинную эфемерность Валушкиного воображаемого неба, и своими мыслями – разумеется, о Земле, которая тоже по-своему выходила за рамки воображения – делился с ним именно для того, чтобы, помимо защиты от «сумасшествия, неизбежного спутника всякого перманентного одиночества», которую Эстеру гарантировали систематические визиты его молодого друга и одинокого слушателя, иметь возможность лишний раз убедиться в несомненном существовании того самого бесполезного ангельского начала, – что же касается вредоносности его до полной здравости мрачных суждений, то, как он полагал, тут опасаться нечего, ибо мучительно выверенные слова отскакивали от Валушки, как легкие стрелы от прочной кольчуги, или, лучше сказать, проскальзывали сквозь его ранимые внутренности, не причиняя им никакого ущерба. Разумеется, он не мог знать этого наверняка, так как трудно было понять, на что именно направляет Валушка свое внимание, слушая своего пожилого друга, – но так происходило в обычных случаях, а в данном конкретном, когда разговор явно не произвел на Валушку привычного успокаивающего воздействия, было легко заметить, чтó не дает покоя его нетерпеливому гостю – да-да, чемодан и вырванный из тетради листок бумаги в его руке. Нельзя утверждать, что он тут же понял, в чем причина этого не унимающегося волнения и что вообще означает эта записка, которую нервно теребил Валушка, но и этого Эстеру было достаточно, чтобы догадаться, что на этот раз его преданный посетитель явился сюда не столько как друг, сколько как нарочный, и поскольку уже от одной мысли, что это послание может быть адресовано ему, его охватило острое отвращение, он быстро поставил стакан на ночной столик и – как до этого ради успокоения Валушки, так теперь уже ради собственного успокоения – невозмутимо и с мягкой настойчивостью продолжил прерванное рассуждение. «Между тем, – сказал он, – я нисколько не удивлен, что наши ученые, эти неутомимые рыцари вечного самообмана, расставшись, на свою беду, с метафорой Бога, не нашли ничего лучшего, кроме злосчастного исторического прогресса, для них это теперь столбовая дорога, триумф „духа и воли“ в борьбе с природой, так вот, я не вижу здесь ничего удивительного, хотя, должен признаться вам, мне не очень понятно, почему их так радует, что мы слезли с дерева. Они что, полагают, что это так здорово? Я не вижу в этом ничего забавного. Разве это подходит нам? Посудите сами, чтó нам дали столько тысячелетий усерднейших упражнений? Сколько времени можем мы провести на ногах? Полдня, дорогой мой друг, не так ли? Что же касается прямохождения, то давайте возьмем для примера хотя бы меня, точнее, мою мучительную болезнь, хорошо вам известную, которая вскоре, когда мое состояние усугубится, будет уже называться болезнью Бехтерева (что неизбежно произойдет, как обнадежил меня мой лечащий врач, добрейший доктор Провазник), и тогда мне придется смириться с тем, что остаток жизни я проведу – если проведу – в лучшем случае под прямым углом, а скорее всего, согнутым в три погибели, как бы наказанный столь наглядным образом за необдуманный переход наших предков к вертикальному положению… Спуск с дерева и прямохождение – вот, мой любезный друг, две символические отправные точки нашей позорной истории, и я уже не надеюсь на то, – печально потряс головою Эстер, – что мы сможем закончить чем-то более радостным, ведь даже малейшие шансы, которые нам иногда даются, мы, как водится, упускаем – взять, к примеру, хотя бы полет на Луну, поначалу меня впечатливший как со вкусом преподнесенный намек на прощание; но вскоре, после возвращения Армстронга и Олдрина, а затем и других, я вынужден был признать, что сверкнувшая было надежда обманчива, мои ожидания тщетны, ибо каждая – сама по себе захватывающая – попытка страдала одним изъяном, а именно тем, что пионеры космического исхода, сев на Луне и отчетливо сознавая, что это уже не Земля, совершенно непостижимым для меня образом почему-то не оставались там. Лично я, уверяю вас… улетел бы куда угодно», – перешел он на шепот и закрыл глаза, словно бы представляя тот день, когда он направит стопы к навсегда улетающему с Земли звездолету. Нельзя было утверждать, что магическое воздушное путешествие и переживание воображаемого побега пришлись ему не по нраву, тем не менее это его состояние продлилось не более нескольких мгновений, и хотя он не опроверг последнюю свою – прозвучавшую слишком кисло – фразу, про себя все же констатировал, что явно поспешил с заявлением. Ибо мало того, что искушение символическим бегством почти сразу лопнуло как мыльный пузырь (в самом деле: «С моим везением далеко мне не улететь, так что первым, что я оттуда увижу, наверняка будет Земля…»), так он еще отдавал себе ясный отчет в своей полной непригодности к каким-либо перемещениям. Ему не хотелось и думать о каких-то сомнительных приключениях, и вообще, легкомысленные попытки перемены мест были ему чужды: как и во всем другом, он и в этом вопросе не забывал проводить различие «между чарующими иллюзиями и жалкими потугами поспеть за ними» и хорошо понимал, что вместо головокружительных путешествий ему лучше считаться с реальностью, к которой его «навсегда пригвоздила» судьба. Считаться конкретно с той городской трясиной, от которой – раз уж не вышло выбраться – он, после полувековых мытарств, укрылся в своей берлоге, с тем гиблым болотом, где его угораздило появиться на свет. Оно, в отличие от – минутной! – игры фантазии, казалось непреодолимым, и он не мог отрицать, что даже коротенькая прогулка по этой топи стала ему не по силам. Нет, он этого не отрицал, и уже годами почти не покидал свой дом – в страхе, что какая-нибудь случайная встреча на улице, несколько слов, которыми он обменяется с кем-нибудь, например, на ближайшем углу, до которого он не так давно имел неосторожность дойти, тут же порушат все его успехи, достигнутые в построении затворнической жизни. Ибо он хотел обо всем забыть, обо всем, что – за десятилетия так называемого директорства в Музыкальной школе – ему пришлось вынести в этой среде: убийственные пароксизмы глупости и бездонную пустоту в глазах, полнейшее отсутствие ростков разума в юных душах и навозную вонь духовной косности в воздухе, ту гнетущую силу мелочности, самодовольства и низменного расчета, под действием которой он и сам едва не сломался. Ему хотелось забыть порученных его заботам былых школяров, в чьих глазах пылало незабываемое желание топором изрубить к чертям ненавистное фортепиано; забыть «Большой Симфонический Оркестр», собранный по служебной необходимости из пьянствующих преподавателей и полоумных любителей музыки, и оглушительные овации, коими ничего не подозревающая благодарная публика из месяца в месяц награждала позорные выступления этой компании, которой не место даже на деревенской свадьбе; забыть, с какими – бесконечными – муками пытался он привить коллегам настоящий вкус и уговорить их не играть постоянно одну и ту же пьесу, «подвергая тяжелому испытанию его феноменальное долготерпение». Раз и навсегда стереть из памяти горбатого портного Вальнера и непревзойденного в тупости директора гимназии Лехела, местного барда Надабана и шахматного фанатика из Водонапорной башни по фамилии Маховенец, госпожу Пфлаум, которая своими изысканными манерами умудрилась свести в могилу двух мужей, и доктора Провазника, который своим талантом целителя туда же свел уже уйму народу, словом, их всех, все это «сборище непроходимой глупости», от вечно жалующейся на жизнь госпожи Нусбек до впавшего в полный маразм полицмейстера, от любителя девочек-малолеток городского головы до последнего дворника. Нечего и говорить, что меньше всего он хотел бы слышать о своей супруге, об этом опасном доисторическом существе, которое «по милости божьей» последние несколько лет прожило отдельно, то есть о госпоже Эстер, которая своей беспощадностью больше всего напоминала ему средневековых наемников-мародеров и брак с которой, похожий на дьявольский фарс, явился следствием допущенной по молодости досадной неосмотрительности. Казалось, она собрала в одной своей безотрадной пугающей личности то, что можно было назвать «удручающей суммой всего пестрого балагана» городского общества. Уже в начале начал, когда, оторвавшись от нотной тетради, он неожиданно осознал себя семьянином и как следует разглядел свою перезрелую молодицу, то пришел в замешательство от неразрешимой задачи как-либо называть ее, не упоминая совершенно неподходящего имени («Ну не могу же я, – размышлял он тогда, – называть мешок картошки феей, а именно это и означает ее имя – Тюнде!»), позднее, однако, этот вопрос перестал его волновать, и даже многообразные прозвища, им придуманные, он никогда вслух не произносил. Перестал же по той причине, что гораздо серьезней, чем «убийственная внешность его половины», которая вообще-то полностью гармонировала с руководимым ею неописуемым хором, его потрясло открытие, связанное с внутренними качествами его благоверной, с тем, что – как выяснилось – он взял в жены настоящего солдафона, для которого существует только один ритм – ритм марша, и одна мелодия – боевая тревога. И поскольку он не умел ходить строем, а от хриплого рева военного горна у него по спине бежали мурашки, то достаточно скоро брак превратился для него в капкан, в дьявольскую ловушку, вырваться из которой – или хотя бы помыслить об этом, – казалось, не было никакой надежды. Вместо «стихийной жизненной силы и нравственной чистоты выходца из народа», которые он находил в ней в пору, по сути, бездумного и с тех пор стократ проклятого жениховства, он столкнулся с прямо-таки патологически рвущейся к победе «ограниченностью» и настоянной на казарменном духе «вульгарной расчетливостью», с таким омутом грубости, бессердечия, злобной ненависти и животной похоти, перед которыми в течение десятилетий оставался совершенно бессилен. Бессилен и беззащитен, так как был неспособен ни примириться с ней, ни расстаться (одним лишь упоминанием о разводе он рисковал обрушить на свою голову беспощадную месть…), и все же он умудрился прожить с этой женщиной под одной крышей десятки лет, пока однажды, после тридцатилетнего кошмара, жизнь его не достигла той точки, ниже которой опускаться было уже некуда. Он сидел у окна в директорском кабинете городской Музыкальной школы, устроенной в одном из покинутых молельных домов, и размышлял над встревожившими его словами местного мастера-настройщика, незрячего Фрахбергера, которого он незадолго до этого выпустил за ворота. Он смотрел на бледный закат, провожал глазами сограждан с полиэтиленовыми пакетами в руках, в холоде и темноте расползавшихся по своим норам, и подумал уже, что пора и ему двигаться в сторону дома, когда вдруг почувствовал непривычный и совершенно незнакомый приступ удушья. Он хотел подняться, возможно, налить из графина воды, но руки и ноги не слушались, и тогда он понял, что это не временное удушье, что на него неожиданно навалилось совсем другое – бесповоротная усталость, пресыщенность, горечь и беспредельная униженность, накопленная за полвека «смертельная замордованность такими вот закатами и расползаниями по своим норам». К тому времени, когда он добрался до дома, расположенного на проспекте Венкхейма, и закрыл за собой дверь комнаты, он уже осознал, что так больше не выдержит, и решил, что должен отдыхать – отдыхать, вообще не вставая, так, чтобы не терять впустую ни единой минуты, ибо уже тогда, в тот момент, когда лег в постель, он знал, что от «этого многотонного бремени невежества, глупости, оболваненности, инфантилизма, нелепости, пошлости, дикости, скудоумия, ограниченности и всеобщей дурости» он не сможет избавиться даже за пятьдесят лет непрерывного отдыха. Махнув рукой на былые предосторожности, он принудил госпожу Эстер срочно покинуть дом, начальству же передал, что в связи с пошатнувшимся здоровьем незамедлительно слагает с себя все обязанности и полномочия; в результате, к величайшему его изумлению, словно по волшебству на следующий же день куда-то исчезла жена, а формальное решение о его переводе на пенсию ему доставил несколько недель спустя специальный посыльный вместе с неразборчиво подписанными «пожеланиями успехов в музыковедческих штудиях»; так что с этого времени по непостижимой милости судьбы ничто не могло помешать ему заниматься тем, чем, по его убеждению, он должен был заниматься всегда: возлежать преспокойно в постели и для собственного развлечения с утра до вечера придумывать слова «на одну и ту же горестную мелодию». Когда улеглись первые волны облегчения, понимание, проявленное начальством, как и удивительная покладистость жены, больше не вызывало у него вопросов, хотя общая для всех уверенность, будто его уход с работы связан с тем, что занявшие не одно десятилетие изыскания Эстера «в мире звуков» подошли к последнему и вместе с тем решающему этапу, была основана на недоразумении, на том явно ошибочном, пускай и не совсем беспочвенном, предположении, будто он занимается музыкальными штудиями, – между тем в данном случае можно было говорить об одном его озарении, направленном как раз против музыки, о «решительном разоблачении» веками скрываемого и приведшего его в отчаяние скандала. В тот самый роковой день – совершая обычный вечерний обход, дабы убедиться, что в здании никого не осталось – он, заглянув в актовый зал школы, застал там Фрахбергера, о котором, видимо, все забыли; как обычно бывало, когда Эстер случайно заставал настройщика за его ежемесячными занятиями, он невольно услышал, как старик, погрузившись в работу, разговаривал сам с собой. Из тактичности (или, может, неловкости) не желая выдавать, что слышит старческое бормотание, он в таких случаях тихонько покидал зал и поручал поторопить настройщика кому-нибудь другому, однако в тот день в здании уже не было даже уборщицы, и ему предстояло лично вывести старика из задумчивости. С настроечным ключом в руке, по обыкновению чуть ли не распластавшись на инструменте, чтобы лучше улавливать юркие «ля» и «ми», этот блаженный знаток фортепиано, не оставлявший без комментария ни одного действия, весело разговаривал сам с собой. Со стороны слова его могли показаться пустой болтовней – а что касается самого Фрахбергера, то для него они болтовней и были, – однако когда, обнаружив какое-то «неожиданное созвучие», он воскликнул: «А эта чистая квинточка откуда взялась тут? Извини, но придется тебя обузить на пару биений…» – Эстер навострил уши. С ранней молодости он жил в непоколебимом убеждении, что музыкальная выразительность с ее непостижимым для разума волшебством слаженности и гармонии – единственное, что человек может противопоставить окружающей его «липкой грязи мира», средство чуть ли не абсолютное в своем совершенстве, и вот прозрачное это совершенство, как он ощутил тогда в актовом зале, пропитанном невыветривающимся запахом дешевых духов, Фрахбергер как бы разрушил сенильным своим кудахтаньем. Да кто он такой, этот Фрахбергер, вскипел Эстер в тот предвечерний час, и в сердцах, в совершенно чуждой ему манере чуть ли не силой всучив опешившему настройщику белую трость, в сущности вышвырнул старика из здания, но слова его, которые вышвырнуть было невозможно, звучали в его мозгу мучительно, как сирена, и неискоренимо, как будто он уже догадался, на что его натолкнет это, казалось бы, совершенно невинное замечание. Еще со времен учебы в консерватории он, разумеется, помнил фразу о том, что «в европейской музыке последних двух-трех столетий господствует так называемый темперированный музыкальный строй», однако какой-то особой важности никогда этому не придавал, как не занимала его и мысль о том, чтó в действительности стоит за этим простым утверждением, но поскольку сиротливое бормотание Фрахбергера, прерываемое порой радостными восклицаниями, наводило на мысль, что, должно быть, и правда есть тут что-то непроясненное, какой-то туман, от которого он должен освободить свою отчаявшуюся веру в абсолютное совершенство музыки, то в первые же недели после отставки, едва выбравшись из самых опасных водоворотов нахлынувшей на него усталости, Эстер, скрежеща зубами, как будто лично против него был совершен подлый выпад, основательно погрузился в предмет. Погрузиться в него, как вскоре стало понятно, означало уйти с головой в болезненную, но освобождающую борьбу с упрямой химерой самообмана, ибо когда он покончил с последней имеющей отношение к теме книгой из тех, что обнаружил на стеллажах в прихожей, предварительно обтерев их от пыли, то одновременно покончил в душе и с последней иллюзией «музыкального сопротивления», на которое до сих пор полагался в защите своих осаждаемых ценностей. Точно так же, как Фрахбергер избавил от лишних биений «чистую квинточку», Эстер лишил героических миражей окончательно потускневшие после этого небеса своих размышлений. Изучив, а точнее, припомнив основные понятия, он первым делом разобрался с отличием между звуком и музыкальным звуком, констатировав, что последний отличается от обычного физического явления определенной симметрией обертонов, или частичных тонов, интервалы между которыми выражают простые соотношения, то есть дроби, где числитель и знаменатель – небольшие целые числа; после этого он рассмотрел, в чем выражается родственность, гармоническая сообразность двух звуков, и пришел к тому, что благозвучность, то есть музыкальный характер взаимосвязи, возникает, когда у двух звуков, или тонов, совпадает максимальное количество обертонов и имеется минимальное количество обертонов критически близких; и все это было нужно ему, чтобы затем без малейших внутренних колебаний приступить к анализу звукового строя со всеми – чем дальше, тем более удручающими – этапами в истории этого понятия, в результате чего он и пришел к своему открытию. Разумеется, в свое время он изучал эту тему, но в силу ее кажущейся тогда скучности не запомнил подробностей, так что пришлось оживлять их в памяти, одновременно дополняя новыми, и неудивительно, что в те лихорадочные недели его комната была усеяна таким несметным количеством бумажек с функциями и расчетами, коммами и центами, таблицами частот и интервальных коэффициентов, что в ней шагу нельзя было ступить. Ему пришлось осознать числовую магию Пифагора, этого окруженного сонмом учеников великого грека, который, поделив на части длину струны, изобрел поразительный музыкальный строй; затем ему пришлось изумиться гениальному озарению Аристоксена по прозванию Музыкант, который, исходя из личного опыта и чувственного восприятия – буквально слыша вселенную чистых звуков, – полагал за лучшее настраивать инструменты по тетрахорду неподражаемого мифического певца Олимпа; иными словами, Эстер должен был с изумлением осознать тот замечательный факт, что «ищущий универсальное начало мироустройства мыслитель» и «смиренный слуга высокой гармонии», используя совершенно различные способы чувствования, пришли к поразительно сходному результату. Однако он вынужден был осмыслить и все последовавшее затем – всю печальную и мистическую историю так называемого усовершенствования звукового строя, в ходе которого порождавшая уйму проблем ограниченность натурального строя, не позволявшего совершать модуляции в отдаленные тональности, становилась все более нетерпимой; таким образом, Эстеру пришлось проследить, как постепенно, шаг за шагом был предан забвению главный вопрос – в чем смысл упомянутого ограничения. Путь развития звукового строя вел от Салинаса из Саламанки и китайца Чжу Цзайюя через Стевина, Преториуса и Мерсенна к органисту из Хальберштадта, и хотя последний в трактате «Музыкальная темперация» 1691 года, к величайшему своему облегчению, раз и навсегда решил мучительную дилемму, все-таки задачу он свел уже просто к настройке музыкального инструмента, то есть к тому, каким образом – несмотря ни на что! – можно свободно играть, в том числе и на инструментах с фиксированными звуками, во всех тональностях семиступенной европейской системы. Оставляя за собой право на заблуждение, этот мастер, Веркмейстер, решил проблему, так сказать, кавалерийским наскоком и, сохранив октавы, попросту поделил весь космос двенадцати полутонов – что ему музыка сфер! – на двенадцать математически равных частей. Таким образом – к вящей радости композиторов и при некотором, быстро выдохшемся, сопротивлении тех, кто еще ностальгировал по «естественной» чистоте созвучий, – он поставил в этом вопросе точку. Вопиющую, вообще-то, постыдную, безобразную точку, осознал изумленный Эстер, ведь получалось так, что гармония, чудесная красота созвучий, до сих пор не дававшая ему погрязнуть в трясине заразной пошлости, «фальшива в самой своей сердцевине», в самих созвучиях музыкальных шедевров, за которыми, как бы там ни было, на протяжении веков угадывалось некое истинное царство. В научном мире не уставали превозносить неподражаемую изобретательность мастера Андреаса, хотя тот был скорее продолжателем своих предшественников, нежели первооткрывателем, и высказывались о его равномерной темперации так, будто она – это обман-то! – была как бы вещью само собой разумеющейся, больше того, настоящие знатоки вопроса, дабы затушевать обман, в своих ухищрениях затмевали даже Веркмейстера и его современников. Они разглагольствовали то о том, какие неведомые и невиданные перспективы открывает распространение равномерной темперации перед несчастными композиторами, дотоле скованными цепями из девяти доступных тональностей, то о том, какие невероятные сложности с модуляцией возникают в случае (заключаемого ими в иронические кавычки) «натурального» строя – и вообще, тут же переходили они на чувства, ведь не можем же мы отказаться от гениальных творений Бетховена, Моцарта или Брамса лишь потому, что при их исполнении звучание будет «на тютельку» отличаться от абсолютно чистого. «Стоит ли толковать о такой безделице!» – соглашались эксперты, и хотя находились отдельные сомневающиеся прожектеры, пытавшиеся смягчить положение рассуждениями о компромиссах, представители большинства ставили под сомнение и это и нашептывали читателю: чистый строй – это фикция, чистые созвучия невозможны, а если даже возможны, то зачем они нам нужны, если мы прекрасно обходимся и без них… Вот когда Эстер сгреб в кучу и вышвырнул вон все эти шедевры – акустической в данном случае – ограниченности человеческого ума, доставив, сам того не желая, немало радости госпоже Харрер и, разумеется, местным антикварам, после чего, объявив этим своеобразным жестом, что его многотрудные изыскания закончены, решил подвести итоги. В том, что речь в данном случае шла вовсе не о техническом, но о «типично философском» вопросе, Эстер ни минуты не сомневался, а по некотором размышлении понял еще и то, что, собственно говоря, спровоцированные ворчанием Фрахбергера по поводу «чистой квинточки» кипучие штудии в области звукового строя подвели его к неизбежному вопросу о вере – к тому, чтобы спросить самого себя, на чем он, человек, никогда не питавший пустых иллюзий, основывал свое убеждение в том, что гармонический порядок, на который с видимой неопровержимостью указывает всякий шедевр, вообще существует. Позднее, когда уже схлынули первые и, несомненно, самые горькие волны смятения, он смог более трезво взглянуть на то, «до чего ему удалось доискаться», он даже как бы смирился и испытал облегчение от этого нового знания, потому что уже понимал, что, собственно, произошло. Мир, констатировал Эстер, есть всего лишь «игра безразличных сил и хаос мучительных виражей», отдельные его элементы друг с другом никак не стыкуются, в нем избыток шума, гама и трескотни, его глас – лишь оповещение о мучениях, и это все, что можно в нем уловить. Однако «собратья по бытию», заброшенные в этот неотапливаемый, продуваемый сквозняками барак – никак не желая смиряться с отторгнутостью от предполагаемого неземного блаженства, – вечно пылают в лихорадочном ожидании, ждут чего-то, не зная точно чего, уповают на что-то, что в принципе невозможно, что ни день убеждаясь при этом, что ждут и надеются они совершенно напрасно. Ибо верить – наконец-то добрался он в своих размышлениях и до собственной глупости – надо не во что-то, а в то, что все обстоит не так, как нам кажется, и что музыка вовсе не способ открыть наше лучшее «я» и открыть для нас лучший мир, а хитроумный способ завуалировать, спрятать от нас и наше безнадежное «я», и этот безрадостный мир, лекарство, которое не излечивает, горячительное, которое навевает сон. Были, были наверняка и благоприятные времена, размышлял он, как, например, времена Пифагора, Аристоксена, когда прежних «собратьев по бытию» не мучили никакие сомненья, они не стремились, не порывались куда-то из-под сени наивной доверчивости и, зная , что божественная гармония принадлежит богам, довольствовались тем, что с помощью мелодий своих чисто настроенных инструментов могли как бы проникать в эту необозримую ширь. Однако позднее, в убогом стремлении освободиться от власти небесных феноменов, все, что они имели, превратилось в ничто, ибо помутившийся разум, высокомерно шагнувший в открывшийся хаос, уже не довольствовался лишь приобщением к хрупкой грезе, но хотел ухватить ее целиком, а поскольку от грубого прикосновения она тут же рассыпалась в прах, то он, как умел, попытался ее возродить: решение вопроса было поручено блестящим специалистам, Салинасам и Веркмейстерам, которые в поте лица, не разбирая, где ночь и где день, где ложь и где правда, поставленную задачу, надо отдать им должное, решили с такой гениальной находчивостью, что публике, по сей день благодарной им, оставалось только воскликнуть, изумленно переглянувшись: «Вот так да!» Вот так да, подумал про себя Эстер и решил было изрубить в куски свой рояль или вышвырнуть его вон из гостиной, но вскоре понял, что это едва ли избавит его от воспоминания о постыдном самообмане, скорее наоборот, будет только сильнее мучить, поэтому он, поразмыслив немного, оставил «Стейнвей» где стоял, сам же решил приняться за дело, чтобы как следует проучить себя за глупое заблуждение. И с этого дня, вооружившись настроечным ключом и частотомером (раздобыть которые в связи с уже начавшимися в то время «серьезными перебоями в сфере торговли» было не так-то просто), он часами торчал у дряхлого фортепиано, и поскольку при этом он только и думал о том, что его ждет, когда работа будет закончена, то полагал, что звучание, которое он в результате услышит, вряд ли окажется большой неожиданностью. То был период генеральной перенастройки, или, как он еще называл его, скрупулезной коррекции Веркмейерова труда, а заодно и коррекции собственных чувств, но если первое ему вполне удалось, то нельзя было утверждать то же самое о втором. Потому что когда пришло время и он смог сесть за перенастроенный в духе Аристоксена рояль, чтобы отныне и до конца дней своих играть на нем один-единственный цикл, неисчерпаемый и непревзойденный, состоящий из истинных музыкальных жемчужин, пригодных для демонстрации всех возможных тональностей, а именно «Хорошо темперированный клавир», то при исполнении первой же выбранной им прелюдии – до-диез мажор – вместо радужных переливов его слух поразил умопомрачительный скрежет, к которому, как он вынужден был признать, подготовиться было невозможно. Знаменитая же прелюдия ми-бемоль минор – на этом настроенном на небесную чистоту инструменте – напомнила ему кошмарную деревенскую свадьбу с упившимися, сползающими со стульев гостями и дородной, тоже изрядно пьяной невестой, которая с грезами о будущем на кривоглазом лице жеманно выкатывается из задней комнаты; столь же невыносимой показалась ему и – по стилю напоминающая французскую увертюру – прелюдия фа-диез минор из второго тома, как и все остальные, которые он начинал играть, пытаясь хоть как-то умерить боль. И если до этого он переживал фундаментальный период «генеральной перенастройки», то теперь наступил долгий период мучительного привыкания, усиленных тренировок, потребовавших полной самоотдачи, и когда по прошествии нескольких месяцев он заметил, что если и не привык к режущему слух шуму, то по крайней мере способен уже выносить его, он решил продолжительные – два раза по два часа – ежедневные пытки сократить до шестидесяти минут. И выдерживал этот минимум строго, неукоснительно, даже после появления в его доме Валушки, больше того, достаточно скоро, когда доставщик обедов и помощник во всех делах сделался его единственным приближенным, Эстер посвятил молодого друга и в саднящую тайну своего потрясения, и в терзания каждодневного самобичевания. Он рассказал ему, что представляет собой звукоряд, объяснил, что каждый из семи тонов, на первый взгляд установленных произвольно, является не просто седьмой частью октавы, то есть это не механическая система, ничего подобного – это семь разных качеств, как семь звезд в Плеядах; а также сказал о том, что и в музыке существуют ограничения, существуют «пределы возможного», и мелодию – именно в силу тех самых качественных отличий семи тонов – невозможно сыграть начиная с любого тона октавы, ибо «звукоряд – это, друг мой, не геометрически правильные ступени храма, по которым вы можете как вам заблагорассудится бегать к боженьке»; он посвятил его в печальную историю звукового строя, представил ему «целый сонм узких специалистов» от незрячего уроженца Бургоса до фламандского математика и при этом – словно бы для примера, дабы продемонстрировать, как шедевр звучит в исполнении на «божественном инструменте» – не упускал возможности сыграть что-нибудь из Иоганна Себастьяна. Уже несколько лет ежедневно после полудня, съев пару ложек, он с кислым видом отодвигал еду, чтобы разделить с Валушкой свое добровольное покаяние, и именно это, сыграть что-нибудь – в назидание – из Иоганна Себастьяна, он собирался сделать и теперь, чтобы как-нибудь оттянуть момент, когда вскроется тайна записки и чемодана, ручку которого по-прежнему нервно сжимал его молодой друг; однако из этой затеи все же ничего не вышло, ибо то ли он сам слишком затянул паузу, то ли Валушка наконец-то набрался храбрости – как бы то ни было, сверкающий глазами гость заговорил первым, и из его, пока еще путаных, слов, относящихся главным образом к его роли в истории с чемоданом, Эстер понял, что шевелившееся в душе недоброе предчувствие не обмануло его. Не обмануло – в смысле содержания полученного послания, а вот от кого оно поступило, это было для него неожиданным, хотя… если разобраться… ничего невероятного не случилось, потому что он знал с того самого часа, когда в свое время жена по первому его слову покинула дом, что этого – своего изгнания – она ему никогда не простит и однажды еще нагрянет, потому что не может оставить неотомщенным ущемление ее прав, точнее сказать, объявление их ничтожными, сделанное холодным, бесстрастным тоном. И каким бы далеким ни казался ему тот день, когда жена покинула дом, и сколько бы ни прошло с тех пор лет, он никогда не питал иллюзий, что госпожа Эстер больше его не потревожит, ибо если он ничего не понял из того факта, что о формальном разводе она «как бы случайно забыла», то из комедии с прачечным чемоданом он должен был ясно понять, что «сдаваться эта особа не собирается»; смысл же сей смехотворной акции сводился к тому, что после того, как она оставила дом, дородная госпожа Эстер, якобы втайне от мужа, раз в неделю стирала его белье, и доверчивый Валушка, которого можно было подбить на любое дело, затем приносил его как бы из прачечной. «Пусть обстирывает, если ни на что больше не годится», – в свое время отмахнулся Эстер и только теперь понял, как дорого ему может встать былая беспечность, ибо вскоре выяснилось, что в чемодане на этот раз находятся пожитки его благоверной, которая этим – нисколько не удивительным – пошлым жестом давала понять, что недалек тот час, когда она и сама вернется домой. Однако в этом – хотя вообще-то и этого было достаточно – еще не было ничего, что указывало бы на характерную именно для нее мстительность, тут Эстер пока что мог усмотреть только какую-то блажь жены, объяснить которую затруднялся, но из слов захлебывавшегося Валушки вдруг выяснилось, что неслыханный по своему злодейству «подвох» еще впереди. О нет, понял он из рассказа Валушки – который, по всей вероятности из страха перед этой женщиной, без устали восторгался ею, – пока она не планирует переезжать домой, а только завуалированно намекает, что это может случиться в любой момент; и передает ему свою просьбу возглавить некое движение за чистоту, которое «просто не может существовать без такого вождя». А также посылает ему список тех горожан, понял он из восторженных слов Валушки, которые составляют цвет местного общества, с тем чтобы он убедил их подключиться к акции и начать – соревнуясь друг с другом! – убирать территорию вокруг их домов, причем агитацию эту она просила начать не завтра, а не откладывая, прямо сейчас, ибо времени на раскачку нет, и пусть он, Эстер то есть, не сомневается, чем может обернуться его отказ, – и далее, в конце этой устной ноты, еще следовал некий намек на «возможность совместного ужина прямо сегодняшним вечером…» Пока говорил его молодой друг, он не проронил ни слова, как продолжал молчать и когда Валушка – вне всяких сомнений, запуганный этой ведьмой – закончил свой панегирик во славу «верной и беспримерно заботливой» госпожи Эстер; он лежал среди взбитых подушек в лишенной былых украшений двуспальной кровати и безмолвно следил за вылетающими из печки и стремительно гаснущими искрами. Сопротивляться? Порвать записку? Или, если посмеет «сегодняшним вечером» приблизиться к дому, наброситься на нее с топором, как, наверное, набрасываются на рояль добропорядочные школяры в оставленной без его попечения Музыкальной школе? Нет, сказал себе Эстер, против подлого принуждения не попрешь, и, откинув одеяло, сел, сгорбившись посидел с минуту на краю кровати и медленно выпростался из халата. К невыразимому облегчению молодого друга, вынужденное решение Эстера в связи с таким «наглым форс-мажором» прервать на короткое время «бесценное наслаждение целебным забвением» было скорым и недвусмысленным, и не потому, что его охватила паника, а в силу его проницательности, ибо даже без длительных размышлений было легко понять, что если он не желает борьбы, но желает избежать наихудшего, то перед ним открыта единственная возможность – уступить шантажистке без малейшего сопротивления; гораздо меньше решительности проявил он, когда встал вопрос о подготовке к вылазке; едва Валушка, которому была поручена «дезинфекция» помещения, вышел из гостиной, чтобы – временно – разместить чемодан («Хотя бы чемодан, если уж нельзя вышвырнуть саму мысль об этой особе…») в самой дальней точке квартиры, Эстер в полной растерянности остановился у платяного шкафа. Причина была не в том, что он разуверился в правильности решения, он просто не знал, что ему теперь делать, и, как человек, у которого вылетело из головы, какое следующее движение он должен сейчас совершить, застыл у платяного шкафа, таращась на дверцу, потом открыл ее и закрыл. Снова открыл и опять закрыл, вернулся к кровати, чтобы оттуда отправиться назад к шкафу, и поскольку стал уже понимать собственную беспомощность, попытался сосредоточить внимание лишь на одном вопросе: не стоит ли ему вместо серой – подходящей к цвету мертвого неба – остановить свой выбор на более отвечающей траурному характеру его миссии черной одежде. Он колебался между двумя вариантами, но так и не смог прийти к окончательному решению ни относительно рубашки и галстука, ни относительно шляпы и обуви, и если бы Валушка не загремел вдруг на кухне судками и он – быть может, как раз под воздействием этого звона – не понял бы наконец, что на самом-то деле ему бы сгодился не серый или черный цвет, а какой-то третий, не существующий в его гардеробе, который на улице защитил бы его как броня, то, ско�Читать дальше
Интервал:
Закладка: