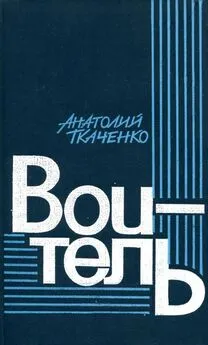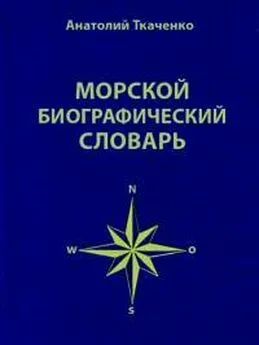Анатолий Ткаченко - Воитель
- Название:Воитель
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:5-270-00761-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Ткаченко - Воитель краткое содержание
В повестях рассматриваются вопросы нравственности, отношения героев к труду — как мерилу ценности человеческой личности.
Воитель - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот и засели мы втроем под сухое вино (крепкое всем было уже противопоказано) вспоминать прожитые годы. К полуночи я остался наедине с Игорем, и тогда он спросил вдруг:
«Ты помнишь нашего Аверьяна Ивановича Постникова?»
Я от стола отпрянул, руками растерянно развел:
«А как же? В одном письме, кажется, спрашивал тебя — помнишь ли ты?»
Игорь досадливо потер лысину ладошкой (он и мальчишкой так же натирал свою круглую, тогда уже лысоватенькую головку).
«Может быть… Запамятовал. В суете, работе. А лет уж как пять не расстаюсь с нашим учителем: то слова его припомнятся из «проповеди» о культуре и справедливости: «Самое, самое главное что? Правильно: быть человеком», то взгляд чуть грустный, что-то спрашивающий, то промелькнет в толпе его улыбка, быстрая и нестареющая…»
Я сказал обрадованно:
«Это хорошо, Игорь, хоть к старости мы…»
«Нет, нет, — остановил он меня, придавив ладонью мою руку на столе, — я не понимал, теперь понимаю: он всегда был во мне, Аверьян Иванович, просто чувством неосознанным, что ли… Что творилось в науке, ты слышал. Та же мосиновщина, та же затоваренная бочко-ящикотара, только из никому не нужных, кроме как для ученых, званий и отчетов, диссертаций, проектов. Поддакни сильному, объединись с влиятельным — и выбьешься, что-то возглавишь, кого-то придавишь, не всегда, впрочем, полезного и одаренного, будешь вхож в верха, а оттуда и до академии рукой подать — опять же, если знаешь, кому и как ее подавать… Не смог, короче говоря, чем больше было суеты, победных речей, возни и грызни вокруг чинов, кабинетов, престижных связей, тем упрямее я уходил в свою работу, чтобы меньше знать, слышать, чтобы считали меня «не от мира сего». Это удалось. Я был прозван «чистым мыслителем», и мне даже редко предлагали соавторство: таких чудаков и закоснелые бюрократы ухитряются уважать — по той причине, наверное, что хоть кому-то что-то надо делать. Я и выжил, как видишь. Чинов высоких не имею, зато совестью… нет, скажем так — принципами не поступился. С совестью труднее, ты это сам хорошо знаешь. Совесть настаивала: не мирись, говори… Жаль было работы, дела — кто бы мне, обличителю, позволил тогда быть «чистым мыслителем»? А вот ты, Никола, говорил, не молчали другие, пусть и немногие. Так что со своей совестью мне придется еще выяснять отношения. И все-таки, все-таки я выжил как человек, личность какая-никакая. Теперь вот думаю: не помог ли мне наш учитель?..»
Игорь замолчал, глядя мимо меня в темное окно, за которым стихал и все более пустел провал Ломоносовского проспекта, потом принес из кухни давно кипевший чайник, насыпал заварки прямо в чашки — по-нашему, таежному! — и мы молча ждали, пока настоится коричневый чаек, затем и принялись отхлебывать его, не подсластив, по-нашему же.
Что мне было ответить Игорю Супруну? Помог ты ему, Аверьян, не помог?.. Ты был в нем чувством, потом и образ твой явился его сознанию. Отними тебя, другого… Не станет прошлого, памяти — не будет и человека. Я был уверен, Аверьян, что именно ты помог ему и еще во многом поможешь, но пусть он сам уверует в это. Потому-то я и сказал совсем другое:
«Игорь, а ведь приехал я найти могилу нашего учителя».
Мой друг передернул плечами, будто чего-то слегка испугался, а затем, невесело глядя мне в глаза, спросил:
«Ты думаешь, такая мысль не тревожила моей головы? Сколько раз поднимал телефонную трубку — узнать, навести справки, сделать запрос… и не набирал нужного номера. Они, номера эти, все выписаны, даже пионерского штаба «Красных следопытов», можешь посмотреть в телефонной книжке! Ну и догадайся, попробуй понять, почему не звонил, не узнавал?»
Я минуту повременил, и меня осенило — до легкой дрожи, озноба: так просто, так согласно с моими мыслями, чувствами! Я сказал:
«Понимаю».
Мы опять молчали. Настенные часы пробили три часа ночи.
Игорь негромко, уставившись в темноту совсем уже притихшего окна, заговорил:
«Найдем, будем знать, где покоится его прах, — и как бы еще раз захороним. А разве он там? И похвалил бы он нас за цветы, за обязанность поклоняться его праху? Не есть ли это, и часто: поклонился — откупился от памяти? Он жив в нас, жив в других, зачем же его хоронить? Понятно, с непохороненным учителем труднее, и все-таки пусть живет, а, Никола?»
Я пожал ему руку.
Он говорил, прислушиваясь к своим словам, и было ясно: все-это им давно и хорошо продумано.
«Делать добро, желая остаться в памяти потомков, непредосудительно, всякому понятно. Но высшее служение добру — не заботиться о личной известности ни при жизни, ни после смерти, ибо это уже искание платы: «быть притчей во языцех». Благо сотворено, оставлено людям — и разве захотел бы слышать даже простое «спасибо» Аверьян? И сознавал ли он, что делает добро? Награда каждого в нем самом. Так умели поступать иные монахи. Все другое — протягивание руки за подачкой. Может, слишком резко говорю, зато честно, как думаю. Безымянное благо не умирает, напротив, как раз оно-то и творит ту высшую духовность, без которой дышать было бы нечем. Потому и вечен наш учитель. Не знаю, слышал ли ты это его четверостишие:
Милые, милый, милая, —
Сколько улыбок, печалей, глаз… —
Даже вас мысленно милуя,
Я умираю за вас.
Не о том же ли оно?»
Я ответил.
«Не знал этих стихов, но и без них был согласен с тобой. Теперь — тем более. От кого ты услышал эти строчки?»
«Ясно, нам бы Аверьян не прочел их, слишком малы были, сестра старшая запомнила и мне передала… Рукописи все-таки горят. Нетленно то, что в памяти не умирает. Жаль, это моей математикой нельзя подтвердить… А теперь спать, мой друг Никола».
Утром мы съездили на Центральный рынок, купили большой букет цветов и положили его у могилы Неизвестного солдата.
Через несколько дней Игорь Супрун провожал меня. Минут за десять — пятнадцать до посадки в самолет мы как-то вместе, неожиданно заговорили вот о чем: была ли у тебя любовь, Аверьян? Вспомнили молоденькую учительницу Лилию Сонину, приехавшую к нам в поселок перед самой войной, твои с ней прогулки, катания на лодке, и решили: была!
Потом уже, дома, я припомнил все, что осталось в моей памяти о твоем последнем времени у нас, с зимы до середины лета сорок первого года, — времени твоей любви, так назовем его. Светлом, думаю, для тебя, потому что и нам, детям, оно запомнилось особенно солнечным, звонким, беззаботным (как бывает, вероятно, перед великими бедствиями). И в этом свете — она, Лилия Сонина, учительница литературы в старших классах. Мы, младшие, почти не знали ее и вдруг увидели: Лилия Сергеевна дивно белокура, удивительно синеглаза, худенькая, но спортивная (у нее какой-то разряд был по лыжам), смешливая, но может и за нос больно ущипнуть, если при встрече не понравишься ей, скажем, немытой физиономией или просто букой посмотришь на нее. У Лилии Сергеевны была привычка любому и каждому первой говорить: «доброе утро», «добрый день»… — по времени суток. Никогда она не говорила «здравствуйте», и, наверное, поэтому сельские женщины прозвали ее Добрынюшкой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: