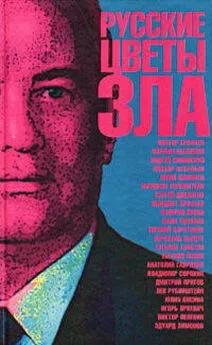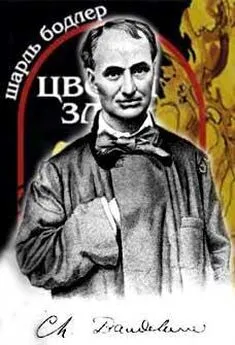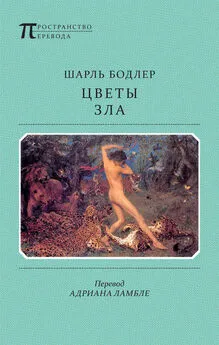Сергей Довлатов - Русские цветы зла
- Название:Русские цветы зла
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо-Пресс, Зебра Е
- Год:2001
- Город:М.:
- ISBN:5-04-088275-0, 5-94663-009-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Довлатов - Русские цветы зла краткое содержание
Последняя четверть XX века в русской литературе определилась властью зла. Вспомнив Бодлера, можно сказать, что современная литературная Россия нарвала целый букет ЦВЕТОВ ЗЛА. Ни в коем случае я не рассматриваю отдельных авторов этой книги лишь в качестве элементов такой икебаны, достаточно убежденный в их самозначимости. Однако сквозь непохожие и порой враждебные друг другу тексты проступает особая тема. Она не просто дает представление о том, что делается сейчас в русской литературе. Важнее, что сумма текстов складывается в роман о странствиях русской души. Поскольку русская душа крутилась в последнее время немало, ее опыт превращается в авантюрный и дерзкий сюжет. В русскую литературу вписана яркая страница. Классический роман XIX века уже никогда больше не будет учебником жизни, истиной в последней инстанции. Внесены зубодробительные коррективы. Чтобы выразить силу зла, в русскую литературу пришло поколение далеко не слабых писателей.
Русские цветы зла - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Прыгая по луговой тропинке на одной ноге, вытряхивая из уха воду, Людочка вдруг услышала за обмыском звериный рокот, вой, шлепанье, взбежала на пригорок и увидела картину: отчим, будто детсадовец, булькался на отмели, молотил узластыми бледными ногами по воде, хлопал черными по локоть руками, брызгался и веселой пастью, сверкающей вставными зубами, ловил брызги.
Мужик с бритой, седеющей со всех сторон головой, с глубокими бороздами на лице, весь в наколках, присадистый, длиннорукий, хлопая себя по животу, вдруг забегал вприпрыжку по отмели, и хриплый рев радости исторгался из сгоревшего или перержавленного нутра мало ей знакомого человека, — Людочка догадываться начала, что у этого человека не было детства, оно, детство, настигло иль настигало его, вернулось к нему лишь теперь, и что каждому человеку положено поздно или рано прожить свое, отыграть, отбегать, отгрешить, отплакать. И тот, кто изымает какую-то часть жизни человека, совершает преступление против него и всякой жизни, сам он, этот изыматель, и есть насильственный преступник, пытающийся взять то, что ему не принадлежит.
Людочка даже испугалась этих никогда в ней не возникавших взрослых мыслей, таких отчетливых и простых. И вообще она не была дурой, она в уединенности своей ого-го-го как умела сама с собой разговаривать, но выступит на свет, на люди — и робеет, становится той глупенькой, бледненькой девочкой, за которую ее принимали в школе, едва шелестящую губами, тихо роняющую зазубренные даты царствования римского императора Августа. Особенно же не давался ей почему-то год открытия Америки Христофором Колумбом. Про Америку она читала и кое-что видела по телевизору, с удовольствием бы рассказала, но нужна-то не Америка, а дата — и двойка тебе, да еще и назидание вослед: «Когда ветер в голове гулять перестанет, выучишь, исправишь. Мне двоечники в отчете не надобны!..»
Людочка упятилась в кусты, руслом ручья поднялась до верхней дороги. Переоделась дома в сухое, легкое платье, со смехом рассказала матери о том, как отчим купается.
— Да где же ему было купанью-то обучиться? С малолетства в ссылках да лагерях, под конвоем да охранским доглядом в казенной бане. У него жизнь-то ох-хо-хо… — Спохватившись, мать построжела и, словно кому-то доказывая, продолжала: — Но человек он порядочный, может, и добрый.
С тех самых пор, с купанья отчима, Людочка перестала его бояться, но ближе они все же не сделались. Отчим близко к себе никого не допускал. Сейчас вот, на лугу, за покинутой родной деревней, она вдруг ощутила такую острую тоску, такую неодолимую тягу к кому-нибудь живому, что подумалось: побежать бы в леспромхоз, за семь верст, найти отчима, прислониться к нему и выплакаться на его грубой груди. Может, он ее погладит по голове, а то и пожалеет…
— Я уеду с утренней электричкой. Ты не возражаешь?
Мать вскинулась, что-то вылавливая в своей голове, сосредоточенно думала, прикинула и выдохнула, подавив в себе тревогу:
— Ну что ж… коли надо, дак…
— Х-ха, быстро-то как! — удивилась Гавриловна. — Что у родителей-то, тесно?
— Они к переезду готовятся.
— К переезду? Тогда конечно. Чем там под ногами путаться, лучше здесь… Чем родители порадовали?
— Да вот. — Людочка пнула стоящий на полу мешок и заплакала, узнав веревочку, приделанную вместо лямки. Из четырех неизносчивых ниток эта веревочка: две коричневые, из овечьей шерсти, почерневшие от времени, и две шелковисто-белые. Конец каната когда-то выменяли вычугане на туристском катере, расплели и веревок на всю деревню понаделали. Крепкущих. Вот она, плотно скрученная веревочка! Мать сказывала, что привязывала ее к люльке, совала ногу в петлю и чистила картошку, готовила пойло корове, пряла, починяла и зыбала ногой люльку с ребенком. «А ты ревливая была. Качаю, качаю, пою, пою: баю-баюшки, баю, не ложися на краю… А ты все ревешь… Плюну я, да чтоб тебя разорвало, заору. Ты с испугу зальешься пуще того…»
— Чего плачешь-то?
— Маму жалко.
— А-а, маму? Меня вот и пожалеть некому… — Гавриловна помолчала и другим уже голосом повела: — Ты вот чё, девонька… хым… хым… стало быть. Артемку — банное мыло-то забрали… Исцарапала ты его шибко… примета. Ему велено помалкивать, иначе смерть. И это самое… от Стрекача были, упредили: если ты пикнешь где, тебя к столбу гвоздями прибьют, мою избу спалят…
Долго и тягостно молчали в дому Гавриловны. Наконец Гавриловна пошевелилась, нащупала голову Людочки в пространстве, прижала к вислой груди, под которой далеко-далеко где-то, пьяно шатаясь, ходило вприсядку, поплясывало изношенное сердце.
— У меня ведь и всех благ — свой угол. Я за него всю жизнь положила, работала как конь, огородиной торговала, от еды отрывала, отпуска единого не пользовала. Люди добрые и в санаторьи морски либо в профилакторьи трудовые, а я покидаю инструменты в чемодан под названием саквояж и по деревням родимым — вшей обирать… Сколько я чесоткой маялась, лишаев да волосяных стригунов навидалась, чтоб копейкой этой разжиться, на избу накопить. Стыдно признаться и грех утаить — одеколон разбавляла… Я ведь и по тюрьмам стригла. На легкую-то работу, в дамский зал, меня уж перед пенсией перевели…
— Хорошо, хорошо. Я в общежитие пойду, — тряхнула головой Людочка, но головы от пригревшей ее груди не отнимала и все слышала, слышала, как мучается человеческое сердце, торопится куда-то.
— Временно. Временно, хорошая моя. Бандюга этот долго не нагуляет… утомлятца он на воле быстро… Он засядет, а я тебя и созову обратно… — Гавриловна ласкала ее голову руками, причесывала гребенкой и в сумерках уже всхлипывала: — Господи! Да отчего же это добрым людям покоя-счастья нету? Зачем оне вечно в тревоге да в переживанье? Будет ли им хоть какое послабление?..
Когда Людочка подросла и смогла самостоятельно передвигаться, каждый день уезжать и приезжать с центральной усадьбы колхоза, где была школа-десятилетка, ведение дома почти полностью перешло на нее. Однажды по весне, к Пасхе, что ли, словом, к какому-то большому весеннему празднику она белила печь, мыла окна, скоблила, вытирала и, когда полоскала половики на реке, соскользнула в неглубокую, но холодную полынью. Солнце уже пригревало хорошо, ока не убежала домой, решив довести работу до конца. И простудилась. У нее поднялся большой жар, дело кончилось районной больницей. Мест, как и в каждой нашей общенародной, тем паче в районной, больнице не было, и, как водится в наших больницах, и не только в районных, временно определили Людочку лежать в коридоре, на всех ветрах-сквозняках с воспалением-то легких.
Ночью длинной, бесконечной, она обнаружила в конце коридора, за печкой, умирающего парня со ссохшимися бинтами на голове и от ночной няньки узнала нехитрую и оттого совсем жуткую его историю.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: