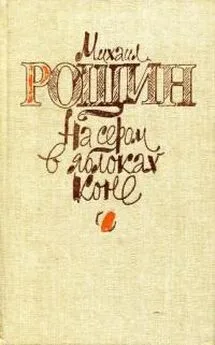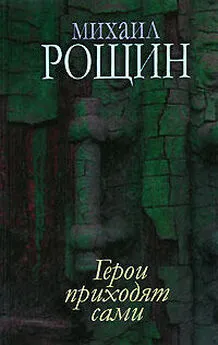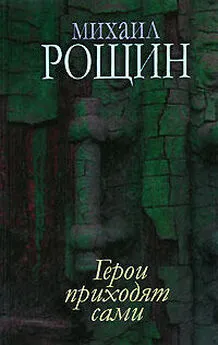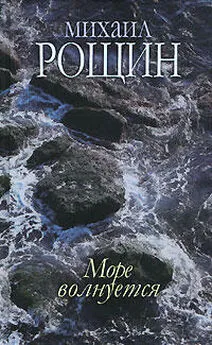Михаил Рощин - На сером в яблоках коне
- Название:На сером в яблоках коне
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-235-00158-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Рощин - На сером в яблоках коне краткое содержание
На сером в яблоках коне - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Во всех подробностях помню тот день: как я боялась, как тянула, как звонила бабке из института разведать, что и как, и слушала ее голос, стараясь по одному ее скрипучему «Вас слушают» (она ненавидела слово «алло», как и вообще все американское, «дэмократыческое», как она говорила) понять, в каком она состоянии. Понять было трудно, но мне казалось: она понимает, что это звоню я, и зачем звоню, и показывает мне, что понимает: я слышу, что это ты, но что ж я могу сказать тебе? я убита — и все.
Снова и снова, в десятый, в двадцатый раз перебирала я в памяти: как сижу, как читаю, как сую беленькие, одинаковые конверты с красной марочкой, с его крупным веселым почерком, перетянутые светлой аптечной резинкой, под этот, — сказала бы я, какой! — коврик, — ах, черт возьми, черт возьми, и на старуху бывает проруха, на всякого мудреца довольно простоты, — теперь они уже и чемодан мой растрясли, а я туда напихала потихоньку и материнского, и Ольгиного, — ох, стыд, стыд, еще и воровкой обзовут — не пожалеют. Вот тебе, Петр Великий, и Полтавская битва! Слезай, приехали! Хоть бы ты был со мной сегодня, хоть бы ты, что ж я одна в этом городе, со своим пузом, со своим несчастьем.
Что вот мне делать, как я туда явлюсь?
Сердце мне подсказывало, что письма, конечно, у них, не может быть такого чуда, да и мать, кажется, взяла сегодня работу домой, да, наверняка они им попались, наверняка. Ну что ж теперь, противник получил неожиданный шанс, придется менять тактику. Но не стратегию.
Я все-таки дотянула до вечера и приехала домой в восемь часов. Мне не сразу открыли, я поняла, что за дверью какая-то подготовка, и Валя встретила меня, глядя ошарашенно, чуть не с открытым ртом. «Приветик! Ты что? — сказала я ей мрачно. — Дай, пожалуйста, тапочки, а то ног не чую». Она бросилась, подала, глядела жалостливо, не смея ничего сказать, и я все поняла. Я раздевалась, снимала боты, причесывалась у зеркала, а сама слушала: что в доме? Хотя все уже ясно стало. Обычно бабка уже висела надо мною, прошаркав сразу на мой звонок и задавая глупые вопросы, она все время спрашивала, что я сегодня получила, какие отметки, забывая, что я уже в институте. Сегодня никто не шаркал, никто ничего не спрашивал, мамина шуба висела на вешалке. «Не волноваться, — сказала я себе, — ребенку это вредно», — и пошла на эшафот.
Мать и бабка сидели в столовой за столом, друг против друга, на столе лежали вынутые из конвертов письма, как трупики задушенных птенчиков среди белой скорлупы, на диване (я не ошиблась) стоял раскрытый чемодан с разбросанными по нему, как при обыске, вещами. Горела люстра, мебель сияла, картины знакомо висели по стенам, но я остро ощутила: все, это уже не мой дом, моя детская и юная жизнь именно в эту минуту закончилась.
Мать смотрела ясно и беспощадно, бабка пыхтела, вытирала опухшее от слез лицо, горбилась, по ее виду я поняла; это она нашла письма — больше некому. Валя опять мелькнула перепуганным лицом и исчезла.
«Думаю, тебе все ясно? — сказала мать и встала, останавливая всякие мои возражения. — Нам тоже. Одевайся. Мы едем к Ройтману, он нас ждет». (Это был знакомый гинеколог, к которому обращались и мать, и Ольга.)
Я не успела рта открыть, как мать заорала: «Молчать! Одеваться!» — «Молчи, — сказала я себе, — не отвечай».
Самое плохое — это следующий день. Проснешься — боже ты мой! — все кино крутится в обратную сторону. Эмоции погасли, как парашют, буря пронеслась, надо впрягаться и собирать обломки. Не зря говорят: утро вечера мудренее. Если не сказать: мудренее. Что делать будем?.. Я проснулась на даче, одна, за окошком — денек серый, снежок мелкий, сосновые стволы. Ни души не видно, ворона пролетела — и на том спасибо. С вечера Коля-сосед притащил дров, помог печку растопить, она век не топилась, дымила, и теперь в комнате тоже сыро воняет гарью. У огня было тепло, грустно, я долго сидела, подставляя теплу ноги и живот, а вот к утру выстудило, я заслонку боялась до конца закрыть, чтобы не угореть, и вставать холодно, неуютно. Между прочим, я никогда в жизни не жила одна, вот интересно. Просто не помню такого: чтобы проснуться одной в целом доме, да еще зимой, за городом. Я все-таки парниковое, конечно, растение, даже стыдно, это все бабкино воспитание. Ничего не умею, всего боюсь. Ладно, глаза боятся, руки делают. Опять надо за печку браться, есть хочется и плакать, но плакать нам нельзя. Я запаслась: и теплыми носками, и штанами, и сгущенка у меня с собой, и макароны, колбаса, чай, как ни следили они за мной, а я быстро побросала все в сумку, в другую руку портфель и ушла, даже дверью не хлопнула. Беситесь, а я поборюсь еще за своего ребеночка.
Меня одно только мучило: он-то где? Неужели не чувствует ничего, что здесь со мной происходит? Моим первым движением было ехать к нему, но как? С пустыми руками? Свалиться на голову? Я послала телеграмму. Уже неделю не было письма, и я понимала: что-то случилось. Страшнее всего, если он все-таки поругался там, не выдержал, уехал. Ведь в каждом письме проскальзывало: зачем, и в Москве, мол, найдется работа, и как бы в армию не забрали, и прочее. Конечно, теперь уже все равно, тихо уехать не удалось, но я бы уже была там, если бы он ответил на телеграмму. Боже мой, больше всего на свете я хотела бы сейчас посмотреть в окно — а он идет через участок, в шапке, смеется, под белым снежком.
В то утро впервые я будто репетировала, как буду жить одна. Мало ли что бывает в жизни. (Я со странной спокойной жестокостью, — так же, как насчет бабки, — думала: вдруг с Петей что-то случилось, и я вообще больше не увижу его никогда.) Мало ли что. Мать откажется от меня и выгонит навек из дому, как она и пообещала, если я не подчинюсь ей. С бабкой я тоже не увижусь больше, отец не помощник. И вот я рожу свою девочку, стану жить с ней вдвоем. В институте придется взять отпуск на год, денег не будет, я стану копать грядки, Коля с женой помогут и научат; заготовлю картошки, капусты, мне много не надо, а ребенок и на молоке продержится. А то можно в Горький податься, к бабе Нюре. Вот, точно! Уж там пропасть не дадут. Там ничего не боятся и все умеют. Это идея. И отца оттуда скорей достанем, пусть поможет, деньжат пришлет. Ничего, ребеночек, не бойся, продержимся. Будем думать только о вещах практических: что могу и чего не могу. Все смогу. Страшно ведь только одно: вот так сидеть у окна, ждать и никого не дождаться. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Остальное одолеется, а этого не одолеть.
Я растапливала печку, ревела, успокаивалась и опять ревела, пока не пришел проведать Коля-сосед и не увел меня к себе, в их теплый дом, где полно было народу, дети прыгали с криком на высокой кровати, орало радио, и толстая кошка лакала под лавкой молоко.
«…Мы тебя три дня ищем, ты где, с ума сошла! — кричал Шпигель в трубку. — Что случилось-то?..» Я молчала и ждала, что он скажет насчет Пети. «Мы ведь в Харьков ездили, мы его домой привезли». И тут мне дурно стало, я трубку выронила и стала оседать в телефонной будке, почти села, испачкала пальто в грязи, трубка болтается передо мной, кричит, а я не понимаю ничего. И потом я поехала, побежала к нему, — это я днем, выйдя из института, звонила, — и хотя уже знала, что ничего страшного нет, но меня так колотило от волнения, что я боялась, как бы ребеночек из меня не выскочил. Вот его мрачный дом, подъезд, лифт не работает. Вообще я хотела войти и сказать: «Ну, что же вы, граф? Что же вы, Петр Великий?» — и саркастически улыбнуться. Но я соскучилась, измучилась, задохнулась, пока поднялась на четвертый этаж. Неужели приехал, больной, бедный, — какая глупость, еще одно поражение терпим. Ну да ладно, ладно. Юлька мне открыла, его сестренка, длинноногая пятиклашка: «Ой! Здрасьте!» — а я дышу, как паровоз, еще у меня кулек с яблоками — как же, для больного, — и банка варенья, и я вхожу и вижу: Шпигель, и рыжий Жорка, и какая-то девчонка — Жоркина, что ли — венгерка, между прочим, как потом выяснилось, — ржут, даже не слышат, что я вошла, а мой сидит в постели, с завязанным горлом, худой, в шерстяной безрукавке поверх красной ковбойки, а они вокруг него, со стаканами в руках, в стаканах красное вино, и он, именно он, что-то им изображает в лицах смешное, кашляет, уж не иначе как про поселок Октябрьский. Остановилась в дверях и стою. Смотрю, как мать на детей, как взрослая женщина на мальчишек, и мой — совершенный мальчишка, с отросшими вдруг усиками, в незнакомой мне рубашке, худющий, а глаза синие, счастливые, что он дома, что его парни с ним рядом. Ах ты, боже мой, моя опора. Вот его жизнь, его стиль, — ребята, веселье, винишко, «студент бывает весел от сессии до сессии, а сессия всего два раза в год». А тут я навязалась, проблемы, любовь, витье гнезда и копание норы. Да пропади они пропадом, эти гнезда и норы, если на них надо жизнь положить, молодость калечить. Увидел меня — сразу выражение переменилось: стыдно стало, что он сидит тут, смеется, что ему весело. А я словно бы разом поняла все про нашу жизнь: что будет, чего не будет».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: