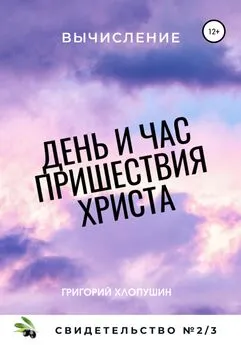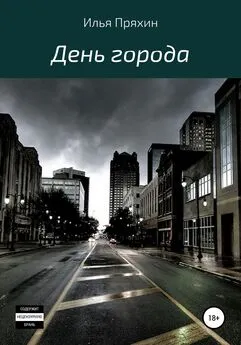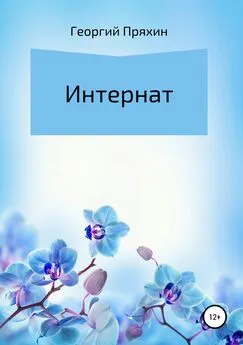Георгий Пряхин - День и час
- Название:День и час
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-265-00616-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Пряхин - День и час краткое содержание
День и час - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И они ушли из родового дома на другой конец села, на самый его край, в чью-то недавно брошенную хату, стоявшую наедине с сухой голодной степью, прилепившуюся к ней как разоренное гнездо.
Утром хату заливала заря и, отстаиваясь, задерживалась в ней, как талая вода. По ночам в голые чужие окна ломились страхи, и, вздымаемый в жуткую высоту, судорожно, как из петли, заглядывал в хату мелово-белый месяц.
Легко представить, что́ она чувствовала в такие ночи. Мне, например, и представлять не надо — сам пережил в детстве нечто подобное. Однажды летом мать с отчимом ушли в гости в соседнее село, а мы, трое ее сыновей, остались дома. Они собирались к вечеру вернуться, мы целый день ждали их, пребывая в радостном предчувствии подарков: село, куда они пошли, было богатое, садовое, тамошние мужички по всей округе развозили на ишаках сливы и виноград (мой двоюродный дед, к которому они направлялись, тоже развозил, и я однажды вкусил постыдного счастья проехаться на повозке со сливами через родное село в сопровождении мальчишеской своры, кричавшей мне: «Брось хоть одну, жадоба!» Бросать приходилось исподтишка, чтоб дед не видел, да и не всем, так что стыд был и перед дедом, и перед пацанами — как будто в бочке с дегтем тебя по селу провезли).
И солнце село, и куры враз, как заговоренные, стихли в тесном своем курятнике, только выдоенная нами корова, это неумолчное сердце дома, стоявшая в его глубине, в половине, отведенной под сарай, шумно пережевывала стравленную за день зелень и дышала так глубоко и мощно, что ее дыханье теплой волной шевелило стены, как ребра, в том числе стенку, под которой, уставясь в пустую меркнущую даль, сидели мы, тщетно дожидаясь своих. В дом идти было страшно, но я понял: если мы не зайдем сейчас, пока темень еще не ест глаза, то позже, когда дом полностью ослепнет и оглохнет, когда даже Ночкино дыханье, единственное, что пока защищало нас и роднило с чужающим (ночь хозяйничала в нем) домом, уйдет в темноту, как в прорву, то тогда, через полчаса, мы вообще не соберемся с духом и можем вот так, на корточках, просидеть под стеной до утра.
Меня подталкивало и то, что самый младший брат уже спал на моих коленях с бесстрашием двухлетнего человека, для которого я, старший, был не менее могуществен, чем наступающая ночь, и это равновесие сил, одинаково непонятных, покойно баюкало его.
Взяв его на руки, я поднялся и, подбадривая по-телячьи жавшегося ко мне среднего брата, а заодно и себя: «Чего бояться? Лампу запалим, молока попьем и — на боковую…» — направился в хату.
Тут надо сделать пояснение, касающееся не столько моего возраста — что-то в пределах десяти лет, — сколько следующего, более существенного обстоятельства.
Накануне днем отчим был сильно пьян. Собственно говоря, «несильно» он и не умел. В селе о нем, сапожнике, говорили так: «Руки золотые, да горло бездонное». Вторая часть дефиниции была несправедлива: «горлу» довольно было маковой росинки (которую в обстановке жесточайшей денежной засухи он исхитрялся схватывать, склевывать где-то, почти на лету, с поистине птичьей изворотливостью), чтобы отчим пошел вразнос.
Мускульно крепкий — будучи моложе него, мои двоюродные дядьки побаивались лупить его в одиночку — человек с истлевшими за войну нервами.
Бронебойщик — танки надо было подпускать как можно ближе.
Маковая росинка производила в нем пожар, и его мощные, в другое время умные и животворящие руки (какие только чудеса не выпархивали из них: чувяки на легкой ременной подошве, которым сносу не было, глиняные свистки, березовые шпильки, ладные и острые, как девичьи зубы), вся его мускульная сила, не удерживаемая больше вспыхнувшей перевязью нервов, с гибельным безумием обрушивалась на первое, что попадалось ему.
Так в пожар рушатся тяжелые стропила. Крушат, убивают и сами при этом теряют свою сопряженность, в которой заключалась их целесообразность, смысл их заключался, превращаясь в бессмысленный бурелом обгорелых бревен.
На следующий день после буйства он, как правило, страдал нравственно и физически: либо угрюмо лежал, отвернувшись к стене и глухо постанывая, либо, в лучшем случае, уничижительно бодрясь, подлащивался к матери. Суетился по двору, хотя, как истинно мастеровой человек, ничего в крестьянстве не умел, был со всеми приторно ласков и вообще, как говаривала мать, вид имел побитого бобика, что не мешало ему преображаться при первой же оказии.
Мы боялись входить в дом главным образом потому, что в доме не было ни одной двери. Обычно, когда отчим оказывался пьян, мать подхватывала нас и просилась ночевать к кому-либо из соседей или подруг. Возможно, на сей раз она не успела подхватиться с нами и убежать. Хотя о приближении пьяного отчима мы всегда знали заранее; он медленно шел по селу, от его центра, спокойно и строго внушал каждому встречному — человеку ли, дому ли: «Тихо-тихо, я — Колодяжный», и встречный — дом ли, человек ли — благоразумно сторонился; сами зловеще спокойные слова его «тихо-тихо, я — Колодяжный» достигали нашего дома, были доносимы к нему прохожими, мальчишками, мной или средним братом, оказывавшимися по каким-то причинам на пути Колодяжного, уличным воздухом загодя, как молния, до появления окончательно созревшей, накалившейся в пути грозы. А может, мать намеренно решилась на сей раз не убегать, показать характер. Она закрыла на крючки все двери в хате и, как наседка, забилась с нами в горнице, в углу, ни словом не откликаясь на ломившийся с улицы мат.
За каких-то полчаса двери были снесены. Страшно и последовательно: сначала с улицы в сенцы, потом из сеней в среднюю комнату и, наконец, из средней комнаты в горницу. Не сорваны с петель или крючков, а именно снесены, вырваны с корнем и разметены в щепья.
С падением каждой новой двери гибельный вал подступал к нам ближе и ближе — мать крепче и крепче обхватывала нас, уже не пытаясь унять собственную дрожь, пока не навис — вот он — над самыми нашими головами.
Тут бы ему и накрыть нас, всех четверых.
Но в последний момент с ним что-то стряслось. Выражение гнева на потном лице сменилось гримасой презрения и тут же — судорогой боли. Сопротивления не было, и вставшая на дыбы волна, не встретив последнего, главного препятствия, к сокрушению которого она готовилась все предыдущее время, на мгновение застыла в недоумении, а потом безвольно шлепнулась оземь, едва потревожив слежавшуюся гальку.
Из нее как будто душу вынули, силу, и волна стала полой.
Пока Колодяжный дико озирался по сторонам, мать с маленьким на руках и еще с двумя, державшимися с разных сторон за ее юбку, прошла мимо него через все вываленные двери, как будто они для того и выдирались, чтобы ей сподручнее было с таким кагалом выйти из дома, и медленно пошла по улице.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



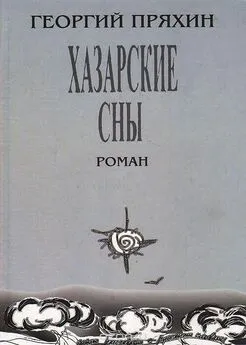
![Георгий Пряхин - Интернат [Повесть]](/books/1099702/georgij-pryahin-internat-povest.webp)