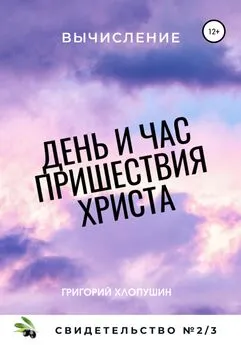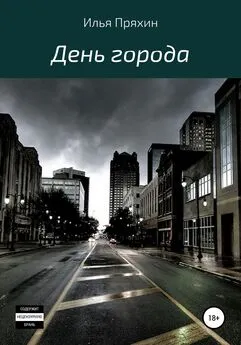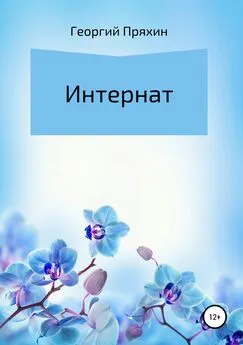Георгий Пряхин - День и час
- Название:День и час
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-265-00616-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Пряхин - День и час краткое содержание
День и час - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Рассуждая на сей счет, ты и подходил к церкви. Подойдя вплотную, обратил внимание, что в мастерских-то, пожалуй, никого нет. Машины, тракторы, плуги, сеялки стоят, а народу не видать. Только тут пожалел, что сгоряча дунул в Толстово-Васюковку воскресным днем: не мог дождаться понедельника. Но делать было нечего. Надо войти внутрь и попытаться найти хоть одну живую душу. Не могли же всю эту технику оставить без присмотра. А может, он и в самом деле работает сторожем? — надежда еще не покидала тебя.
Живую душу нашел. Сама нашлась. С внешней стороны церковный забор опоясывали запущенные заросли кустарника. Все тут было вперемешку: сирень, одичавшая смородина, желтая акация. Летом сквозь них не продраться, но сейчас все голо, жалко, сиро. Обломанные и ободранные непогодой ветви, скребущиеся о полуразрушенный, осыпающийся кирпич. Да еще под таким тоскливым, неспокойным небом. В этих кустах и бродила, пробиралась, не обращая внимания на цеплявшиеся колючки и ветки, живая душа. Душа была в ермолке и в замызганной хламиде, не поддающейся ни описанию, ни определению. На ногах имела стоптанные кирзовые сапоги с подвернутыми голенищами.
Несмотря на всю эту странную, но вместе с тем еще материальную одежду, душа выглядела такой тщедушной, скрюченной, бесплотной, что казалось: лишь стоптанные пудовые кирзачи с навернувшейся на них грязью удерживают ее на бесприютной земле. Занятие у нее, насколько успел заметить, странное: собирала среди кустов всевозможную рухлядь и бережно засовывала в торбу, болтавшуюся за спиной. Какие-то опорки, всякую рвань — их сначала сурово исследовали палкой, поворачивая то одной стороной, то другой, а потом, в случае удовлетворенности осмотром, той же отполировавшейся от долгого служения палкой поддевали и спроваживали в торбу.
Летом все это старье было заткано листвой, зимой его завалит снегом. Вероятно, заросли давно использовались здешними жителями в качестве свалки; это был фильтр, сито, поставленное поперек течения деревенской жизни. И чтобы выгрести его, надо было в самом деле ловить момент, пользоваться межсезоньем, оголившим на какое-то время содержимое сита — неприхотливые отложения провинциально струящегося быта.
Сапоги, хламида, ермолка вполне могли пополнить здешние залежи.
Ты тоже направился в кусты, поздоровался, спросил, где найти товарища Башкатова.
Отвечено тебе не было: палка как раз делала смотр очередному опорку.
Повторил вопрос громче, наклонившись вплотную к ермолке.
К тебе недовольно обернулись, на тебя взглянули снизу вверх. По задранному мичуринскому клинышку ты понял, что душа — мужеского пола.
Человек стал молча выбираться к воротам, и по энергичному движению бороды (как хвост у трясогузки) ты понял, что предложено двигаться за ним. Вошли в ворота, потом прошли внутрь храма. Здесь тоже стояла техника, пахло газойлем и солидолом, на полу лежали приготовленные к ремонту узлы и агрегаты. Пересекли его и двинулись в пристройку. Здесь проход сразу сужался, окна располагались редко, были узки и находились под самой крышей. Их вялый свет не достигал выщербленного каменного пола, таял, как первый снег, не долетая до земли. Старик ковылял, что-то неразборчиво шепча себе под нос, корреспондент следовал за ним. На какое-то время стало не по себе. Куда он ведет? И эта безлюдность, и мертвая тишина вокруг. По правую руку время от времени попадались узкие, крепко траченные временем двери. Кельи? Тогда тут и впрямь был монастырь. Сумрачность, затхлость, дыхание поверий и старых, пугающих тайн.
И кто он, этот старик, что идет не оборачиваясь и в то же время в полной уверенности, что ты как на веревочке послушно следуешь за ним?
Вы как будто спускались куда-то — ниже и ниже.
Читатель, конечно, уже догадался, что это и был Антон Башкатов. А вот ты сразу не сообразил, не усек, что перед тобой-то и есть, и бродит в церковных зарослях душа большевика Антона Башкатова! Не догадался… Уж больно разными они оказались: романтический образ Антона, который уже успел-таки родиться в твоем горячем воображении, и этот реальный старик в кустах — сам как достояние сита. Фильтра.
Да, то и был Антон Башкатов. Собственной персоной! Душой…
Он открыл одну из узких рассохшихся дверей, и вы точно оказались в келье. Тоже узкая, с высоченным потолком и со стрельчатым окошком, из которого сеялся все тот же вялый, неяркий свет. Деревянный топчан, застланный ватным одеялом не первой свежести. Груда книг и старых, изодранных журналов на нем. Старый, первых выпусков радиоприемник «Ригонда» в углу прямо на полу. Голая двухсотсвечовая лампочка под потолком: храм, разумеется, был электрифицирован.
Минимум, сделавший бы честь и иному схимнику.
И все же это был второстепенный минимум.
Главным было следующее.
Вся противоположная от топчана сторона чуть ли не до потолка завалена опорками. Сапоги, валенки, ботинки, туфли — вернее, то, что было когда-то сапогами, валенками, ботинками, а сейчас было преимущественно рванью. В торце же кельи стоял сапожный верстак, перед ним низкий сапожный стульчик с сиденьем, вырезанным из голенища кирзового сапога. На этом стульчике и сидел в данную минуту товарищ Антон Башкатов.
Ты расположился на топчане.
Антон Башкатов, надо заметить, как только вошел, отставил в сторону торбу, стянул хламиду, умостился на стульчике, обвязавшись предварительно на удивление аккуратным, никак не соотносящимся с остальным гардеробом кожаным фартуком — ты и раньше замечал за мастеровыми этот особенный форс: идет анчутка анчуткой, зато ящичек с инструментом блестит на солнце, как отполированный, — посадил на нос очки с круглыми стеклами и молча принялся за прерванную работу. Ставить латку на ботинок, который лежал, дожидался его на верстаке.
Кроме рваного ботинка был на верстаке еще один предмет, который сразу же привлек внимание. Чернильный прибор, и не абы какой, а мраморный, с голубыми прожилками на бледном, дородном, купечески-холеном теле. Две чернильницы с откидными колпачками, стакан для карандашей и ручек (гусиных перьев?), пресс-папье: нежная канавка в мраморе — как ложбинка меж пухлых грудей. И все это — на могучем, килограммов в пять, постаменте.
О эти мраморные письменные приборы! Много лет спустя столичная Газета, в которой ты тогда работал, обратилась к читателям с просьбой присылать в редакцию старые фотографии из семейных альбомов, имеющие отношение к нашим зоревым годам. Фотографии пошли. Нельзя сказать, что их было множество. Нет. Вероятно, их вообще не так много — фотографий тех начальных лет. Да и те карточки, что были, сохранились, дошли до потомков, немыслимо выдирать из семейных альбомов и слать куда-то в редакцию в неопределенной надежде, что их напечатают или хотя бы вернут. Обращаясь к читателю, как-то не учли это простое обстоятельство. И тем не менее за несколько месяцев фотографий поднакопилось порядочно. И оригиналов, и копий. Шли и шли они потихоньку, пересекали страну во всех направлениях, плыли, покачиваясь, в сегодняшнем дне — вестники времен минувших. Как листья на тихой воде. И вот в урочный час все оказались разложенными у тебя в кабинете. Пол застелили газетами, на газетах разложили фотографии. День вчерашний пристально смотрел с беспокойного лона дня сегодняшнего.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
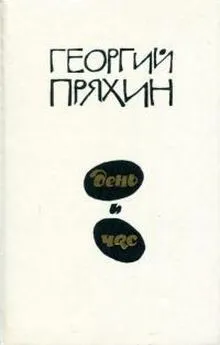

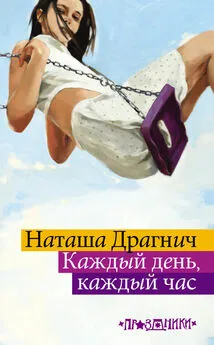
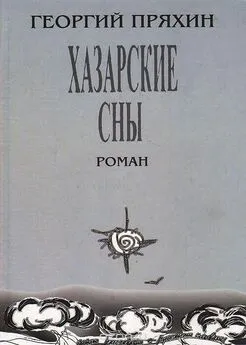
![Георгий Пряхин - Интернат [Повесть]](/books/1099702/georgij-pryahin-internat-povest.webp)