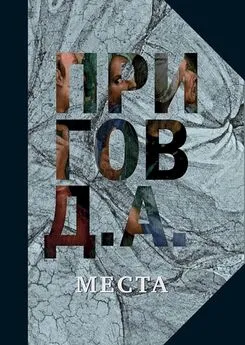Дмитрий Пригов - Места
- Название:Места
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1054-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Пригов - Места краткое содержание
Места - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Обратим при этом внимание, что для Пригова не текст закрепляет коммуникативные практики автора, а вовсе наоборот — практики социальной коммуникации вырастают из экспериментов с сочетанием различных культурных языков. Пригов подчеркивает:
Мне очень помогла работа с разными литературными языками и дискурсами. Она, по счастью, совпала с развитием моей внутренней психологической структуры. Я преодолел внешние проявления застенчивости, легко стал находить общий язык с разными людьми. Я никогда не форсировал тех тем, которые в данном пространстве неразрешимы, не лез со своими претензиями и доказательствами, что все присутствующие — идиоты и суки. Мне интересны люди, их поведение, структура мышления. Я легко впадаю в разговор, не пропадая в нем, в нужный момент я могу перейти на другой язык. Мне интересен этот процесс.
Для Пригова вообще принципиально существование не в одном, а по крайней мере в двух языках — по Лотману, это механизм организации художественного текста, — однако Пригов придает ему значение общефилософской стратегии. В приведенной цитате речь идет о поведенческом (перформативном) воплощении того принципа, который объединяет тексты, собранные в этом томе, — а именно специально культивируемой Приговым эстетики выходов за пределы «своего круга» и своего языка, его почти обсессивного стремления осваивать, а часто и изобретать языки другого, превращая их в пространства «другости» и формируя на этой зыбкой почве некую метафизику языковых реальностей.
Разумеется, этот принцип применим ко всему творчеству Пригова, однако в этом томе читатель найдет, может быть, наиболее очевидные его воплощения. Здесь категории «всеобщего» и универсального методически подвергается сомнению (разделы «На глазах у всей вселенной» и «Пригодные места»). Попытки описать «свое» («Русское» и «Беляево») выявляют сосуществование множества языков. А попытки освоить «другое» и экзотическое постепенно становятся неотличимы от автопортретов («Лондонское», «Западное», «Восточное», «Параллельные пространства», повесть «Только моя Япония»). Казалось бы, сугубо формальные игры с языком («Территория языка», «Азбуки») в этом контексте приобретают роль «математики», порождающей многочисленные «формулы» структурных композиций и метаморфоз «своего» и «другого». Аналогичные метаописания диалектики «своего» и «другого» разворачиваются в текстах Пригова, объединенных обращением к Пушкину, а также в его пьесах (раздел «Пространство сцены»).
Пригов любит писать на «вечные темы». Но только для того, чтобы «не выдержать» тон, сбиться на что-то неподходящее, если не откровенно смешное. Скажем, в ранних стихах под названием «Евангельские заклинания» (1975) смешного ничего нет, но смещена модальность — и повторение фраз, «описывающих» Голгофу, превращается в заклинание, то есть наделяется перформативным смыслом:
Отец мой прошу убери или мимо пронеси эту чашу
Прошу убери или мимо пронеси эту чашу
Убери или мимо пронеси эту чашу
Мимо пронеси эту чашу
Пронеси эту чашу
Эту чашу
Чашу
Каноническая сцена постепенно превращается в словесно выраженное радение, долженствующее воплотить «вечный» сакральный смысл, но вместо этого переносящий сакральность на сам процесс чтения-исполнения:
Ангел на кры-ы-ы-лах
Мария на сту-у-уле
Ангел в две-ее-ри
Мария в смяте-ее-нье
Ангел с ве-ее-стью
Мария с чре-ее-вом
Ангел для не-ее-ба
Мария для на-аа-с
Зачем нужен этот сбой? Чтобы «присвоить» набор универсальных символов сакрального? Да, наверное. Но то же самое можно сказать и о «Реквиеме» Ахматовой, и о стихах из романа Пастернака. В отличие от этих классиков модернизма Пригов преследует более радикальную цель: разрушить вечность, превратив ее в символы в источник игры — пока что вполне почтительной, но лиха беда начало.
Больше чем через двадцать лет, в цикле «Всеобщее (интернациональное)» (1997) Пригов напишет: «Интернационального как такового, в чистоте, не может быть. Но может быть желание, стремление абсорбировать некий экстракт некой культуры и предложить его к потреблению как всеобщего и ничейного по причине ожидаемой и предполагаемой его совместимости с чем угодно иным». Вслед за этой декларацией следует абсурдистский текст-кричалка.
Очень трудно быть красивым
На глазах у всей вселенной
В этом случье быть красивым
Значит быть той всей вселенной
Да, но и не быть красивым
Значит тоже быть вселенной
Это значит быть красивым
В стороне от всей вселенной
Иначе говоря, всеобщность, она же универсальность, она же вечность, — оказывается эквивалентна ничейному, давно стершемуся смыслу. Именно поэтому «вечное» совместимо с «чем угодно иным». Именно поэтому «быть той всей вселенной» не значит практически ничего конкретного.
Уже в более раннем цикле «Изучение темы народа» (1976) Пригов вплотную приближается к этой интерпретации, разрабатывая такую монументальную категорию советского языка, как «народ». Современный читатель может не помнить, что в 1970-х годах эта категория принадлежала не только советскому дискурсу. О страданиях народа писал Солженицын, на народ возлагали надежды деревенщики и даже некоторые диссиденты. Таким образом, «народ» (то в марксистской, то в либеральной, то в националистической интерпретации) рисовался как «представитель вечности» в социальном мире.
Пригов не оставляет от этой иллюзии камня на камне, рисуя народ — так же как и «вечность» — как нечто неопределимое и, по существу, бессмысленное:
Народ он делится на не народ
И на народ в буквальном смысле
Кто не народ — не то чтобы урод
Но он ублюдок в высшем смысле
А кто народ — не то чтобы народ
Но он народа выраженье
Что не укажешь точно — вот народ
Но скажешь точно: есть народ. И точка
И далее:
Мы на народной ниве таем
А сам народ? — чья нива сья
Ему всегда так не хватает
Объективации себя
И потому ему всегда
Враги нужны для этой цели
Так будем ж нужной панацеей
А против общего врага
И мы народом встанем целым
Как видим, неопределимость и бессмысленность «вечной» категории народа компенсируется изобретением фигуры врага — фигуры «другого», вокруг которой и кристаллизуется миф о народе. Ход этот становится особенно важен в силу того обстоятельства, что начиная примерно с 1974 года Пригов вступает в, условно говоря, соц-артистский период, отмеченный созданием стихов, написанных «с точки зрения народа». Или же: с точки зрения отсутствия — языка, позиции, места, — привязанной только к фигуре «другого»: иностранца, идеологического врага, преступника. Вот почему центральной фигурой приговского соц-арта становится Милицанер, само существование которого определяется наличием врагов. А любимый враг — разумеется, «мериканский президент»:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: