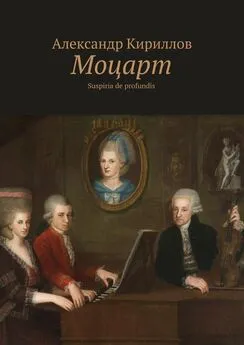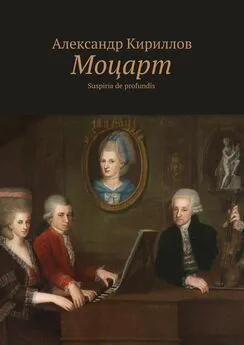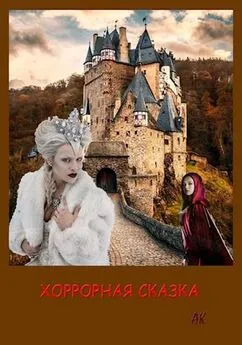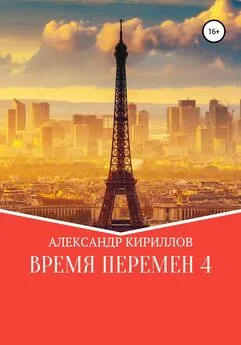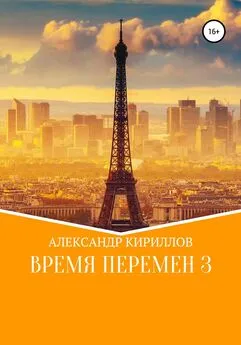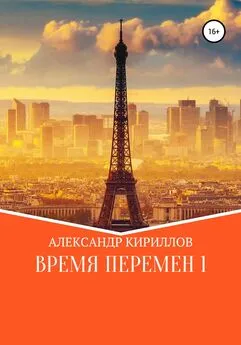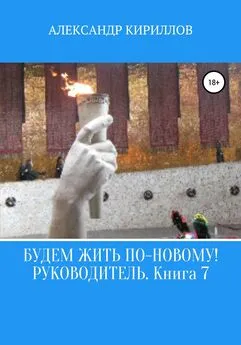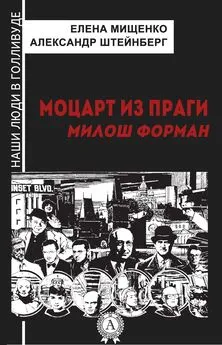Александр Кириллов - Моцарт
- Название:Моцарт
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2016
- ISBN:978-5-4483-6026-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Кириллов - Моцарт краткое содержание
Моцарт - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С тем же платком, но уже осушая им глаза, стоял он в дверях дома на Гетрайдегассе 9, провожая Моцартов в очередное заграничное путешествие, снабдив их на дорогу деньгами и заемными письмами. Из-за его тучной фигуры, уцепившись рукой за отцовскую пуговицу, выглядывал Доминик, и крутил эту пуговицу молча, с ожесточением, пока не отрывал её.
По неведомым для нас причинам Бог не терпел возле Вольфганга самых близких ему друзей и решительно отбирал их у него. За что налагалась такая жестокая епитимья — Бог весть? Но их круг сужался, а обзаводиться новыми друзьями уже не хватало душевных сил. Доминик был первым, утрату которого ему пришлось пережить. Это была не смерть, но вечная разлука. Доминик ушел в монастырь Св. Петра послушником. За глухими стенами вместе с ним укрылся и его Вольфганг, их Зальцбург. Представить себе дом папаши Лоренца без Доминика (и не только дом, но и весь Зальцбург) было для Вольфганга равносильно смерти друга. Их шушуканья в соборе дождливыми холодными вечерами, их откровения на чердаке и длительные прогулки по городу, особенно частые перед отъездом Вольфганга за границу — вот их Зальцбург. В те годы Доминик был его вторым «я». Он крепко-накрепко связывал его невидимой духовной нитью с Зальцбургом. И вдруг всё разом оборвалось. «Вольфганг плакал, когда я читал ему это письмо, и на мой вопрос о причине слез, он ответил, что испытывает боль, так как думает, что никогда больше не увидит его. Нам с трудом удалось вывести сына из этого заблуждения… Вернувшись в Зальцбург, он намерен тут же ехать в монастырь Св. Петра и просить Каэтана [Доминика], чтобы тот поймал для него муху и отправился вместе с ним стрелять по рисованной мишени». Это были его последние отчаянные, еще темные, детские слёзы.
С той самой поры, глядя весной на цыплячью нежность вылупившегося из почки крохотного листика, Вольфганг инстинктивно жалел его — он ведь не доживет до осени и, может быть, уже в начале лета огрубеет, пожелтеет, увянет и отвалится от ветки, став изгоем, так и не дождавшись осеннего листопада, этой естественной поры, когда и смерть красна; его будут топтать до срока, поддевать носками башмаков, под шумящими кронами всё такой же свежей, никогда не вянущей (как ему будет казаться с земли) ярко-зеленой листвы, под которой он будет сохнуть, буреть, пока совсем не превратится в прах.
На всё есть два взгляда — с земли и с небес. Их смена и есть переселение души из этого в лучший из миров. Для Вольфганга они оба стали доступны уже здесь на земле. Отсюда «черствость» его души, которая видит не только участок дороги, но и весь путь. Интуитивно он знает, нельзя приспособиться к тому, что не имеет времени, что есть бессмертие, как нельзя приспособиться к Богу. Всякая внешняя ломка чего бы то ни было — музыкальной формы, взаимоотношений с людьми, образа жизни или государственного устройства (пример его глухоты к французской революции) ему чужда. Его новаторство не в изобретательстве, а в состоянии души. Время уходит только на запись, он сразу знает любое своё творение целиком. Он лишен радости Й. Гайдна усердно кружить по непредсказуемому лабиринту разработок, делая по ходу неожиданные открытия. Его разработки не развитие темы в общепринятом смысле, а сама тема, увиденная во всей своей сложности и полноте. Его ансамбли — не диалоги страстей и мыслей героев, а монологи их судеб.
Говорят, Шостакович был наделен той же способностью слышать свои сочинения не в беглых набросках, а уже завершенными, во всей своей целостности. Но в отличие от Моцарта он был безбожником или, скажем, не пришел к Богу, не дошел до Него, не услышал Его зова. Потому таким невыносимым для него был взгляд на себя из вечности, настолько невыносимым, что лишь в искаженном, сатирическом, пародийном виде он мог еще казаться ему терпимым. Всплески натужной, почти шутовской веселости, бравурности, ёрничества, отчаянного протеста перемежаются в его музыке с приливами сильнейшей душевной депрессии, холодной и мутной меланхолии.
Не миновала сия «чаша» и Вольфганга. Но она была не с цикутой умерщвляющей, как у Шостаковича, сулящей мрак души, небытие, тлен. В «чаше» у Моцарта, как в Св. Потире, кровь Господня, животворная, бальзам вечной жизни. Не старухой с острой косой явится к нему смерть, а Божьей матерью, «Нечаянной Радостью», благословляющей и утешающей, что уже завтра он будет с Ними. А пока отнимались у него дýши, к которым он особенно привязывался; и нужда заставляла его раз за разом съезжать с новой квартиры, едва обжитой. И не случайно ему было отказано в счастье взаимной любви, а жизнь проходила в придорожных гостиницах и почтовых каретах в поисках надежного заработка и постоянного пристанища. «Доколе Я буду с вами?» — вслед за Господом мог бы себе позволить сказать он, вечно кочующий с места на место, как кочуют цыгане.
ОТЪЕЗД
Я написал эту фразу и тут же зазвучала во мне тема Анданте из Концертной симфонии для скрипки и альта (Es-Dur) , сочиненной им уже по возвращению в Зальцбург (1779), два года спустя после заказанного м-ль Женом фортепьянного концерта.
Это Анданте и Андантино из концерта для м-ль Женом ведут между собой через годы безутешный и только им понятный диалог. Андантино драматично, так как еще только предчувствует или, точнее, провидит будущее, уготованное Вольфгангу (затрудненное дыхание, местами с приступами настоящего удушья, стесняет неторопливую, словно на исповеди, скорбную речь); Анданте — трагично, но уже без мрачности: покойно, печально, просветленно, потому что всё уже позади, свершилось. И теперь мне понятно, откуда у Моцарта вдруг этот тягучий («таборный») мотив главной темы в Анданте . Это скорбь «Вечного Жида» о навеки утраченном доме, которым был для Моцарта не столько пятачок земли, с населявшим его германским народом, но весь мир. Таким он представлялся ему в Зальцбурге из окна тюремной крепости, куда его снова упрятали, где ждала его всё та же камера, обмятый его боками тюремный тюфяк, неизменный надзиратель в облике отца, изученный им до характерного звука шагов, менявшихся в зависимости от настроения.
До побега — он знал путь на волю, и где та стена, под которой готов был подкоп. После побега — стена выросла внутри него, а за стеной осталось похороненным всё то, что еще недавно с такой силой и обещаниями звало на волю. Он опять несвободен. Но это уже не та несвобода , масштабы которой зависели от прихотей князя-архиепископа, здесь уже явно просматривался Божий Промысел. Открытый космос манил и звал странным жестяным звуком — не то шелестящим, не то позвякивающим, словно связка ключей в руках св. Петра. Даже в ночной тишине касался его кожи сухой металлический шелест и внушал: твой путь — путь «послушника», «путь и́скуса» — иди, иди, не оглядывайся, не зная привязанностей, сожалений, сомнений, страха… а звуки оркестра судорогой стягивали глотку — глубокими, пудовыми, спазматическими вздохами…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: