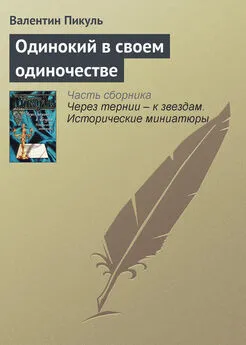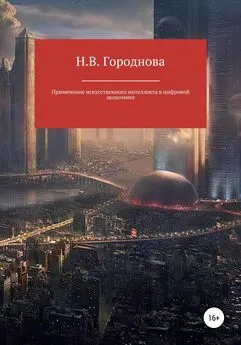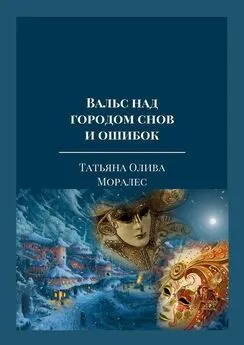Оливия Лэнг - Одинокий город. Упражнения в искусстве одиночества
- Название:Одинокий город. Упражнения в искусстве одиночества
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ад Маргинем Пресс
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91103-390-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Оливия Лэнг - Одинокий город. Упражнения в искусстве одиночества краткое содержание
Одинокий город. Упражнения в искусстве одиночества - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В последней своей публикации — очерке, завершающем «Воспоминания», — он писал о том, как делается все более незримым, как начинает ненавидеть людей за то, что они неспособны понять, где он витает, за пределами обыденного тела, которое все еще выглядело снаружи достаточно здоровым. Его нет, думалось ему, он прекратил существовать. Осталась смутно знакомая оболочка, но внутри ничего нет, — чужак, которого люди, как им кажется, по-прежнему узнаю́т.

Он всегда терпеть не мог того, как СПИД-активизм настаивает на жизнерадостности, отказывается признавать возможность смерти. Теперь он излил все это — полную обособленность больного на последней стадии недуга. Ему в тот год исполнилось тридцать шесть. Крайне компанейский человек, с большим опытом соавторства, чьи письма, дневники, пухлые телефонные книжки и пленки с автоответчиков свидетельствуют о том, как глубоко его любили, как он сам был привержен дружбе, как глубоко врос в свое сообщество. И все же:
Я — стакан, прозрачный пустой стакан… Ни один жест не способен меня тронуть. Меня забросили во все это из другого мира, и я больше не могу говорить на вашем языке… Я чувствую себя окном, возможно — разбитым. Я стеклянный человек. Я стеклянный человек, исчезающий под дождем. Я стою среди всех вас, машу незримыми руками. Выкрикиваю незримые слова… Я исчезаю. Я исчезаю, но недостаточно быстро.
Невидимость и безмолвность, лед и стекло — классические образы одиночества, отрезанности. Позднее эти поразительные слова возникли на последнем развороте «Семи миль в секунду», графического романа о жизни Дэвида, созданного совместно его друзьями художником Джеймсом Ромбергером и Маргерит Ван Кук [133] Джеймс Ромбергер (р. 1958) — американский художник и карикатурист. Маргерит Ван Кук — британская художница, писательница, музыкант, вокалистка, кинематографист.
.
Изображение на титуле — мансарда Худжара снаружи, с улицы, хопперовская перспектива. Вечереет. Небо — кисти Ван Кук, изысканная мрачная акварель — темно-синее, торец здания пылает розовым и золотым. Почтовый ящик, по улице несет газетные листы. Окна в мансарде сияют, но за стеклами никого не видно. Внизу страницы — «НЙ, 1993», то есть по крайней мере через полгода после того, как здесь 22 июля 1992 года в окружении возлюбленного, родных и друзей скончался Дэвид, один из 194 476 человек, умерших в тот год в Америке от инфекций, связанных со СПИДом.
Я не оставляла архива Войнаровича в Нью-Йоркском университете с тех самых пор, как впервые увидела фотографию с Рембо. Бывали недели, когда я ходила туда ежедневно — проглядывала записи или слушала аудиодневники Дэвида. Все, что он делал, было трогательным, но эти пленки предъявляли чувства столь оголенные, что слушать их оказалось разрушительно. И все же, как и с пением Номи, я обнаружила, что само слушание несколько облегчает мое одиночество, — попросту потому, что я слышала, как кто-то другой говорит о своей боли, дает волю своим трудным и унизительным чувствам.
Многое было записано по пробуждении или посреди ночи. То и дело слышны гудки машин и сирены, разговоры людей на улице снаружи. А затем низкий голос Дэвида, выкарабкивающийся из сна. Он говорит о своих работах, своей сексуальности, а иногда подходит к окну, распахивает шторы и докладывает, что видит. Человек в квартире напротив причесывается под голой лампочкой. Темноволосый незнакомец стоит рядом с китайской прачечной, они встречаются взглядами, и незнакомец не отводит свой. Дэвид рассказывает, каково это — умирать, говорит о том, будет ли страшно или больно. Говорит, надеется, что это как скользнуть в теплую воду, и тут, на этой трескучей пленке, принимается петь: тихие жалобные ноты, взмывающие и падающие в поток утреннего транспорта.
Однажды ночью он просыпается от плохого сна, включает магнитофон — проговорить. Ему приснилось, будто какую-то лошадь сбило на железнодорожных путях, позвоночник сломан, ей не убежать. «Она была еще живой, — говорит он, — и смотреть на это было ужас как неприятно». Он описывает, как он пытался ее вызволить, и как ее оттащили к стенке и там освежевали заживо. «Я понятия не имею, что это для меня означает. И мне кошмарно и очень грустно отчего-то. Что это за нота — неизвестно, она просто очень грустная и очень резкая». Затем он прощается и выключает магнитофон.
Нечто живое, нечто живое и милое застряло в механизмах и поломано ими, в рычагах и рельсах общества. Думая о СПИДе, думая о тех, кто умер, и об условиях, в которых они жили, думая о тех, кто выжил и носит в себе десятилетие скорби, десятилетие утраты, я вспоминаю о сне Дэвида. Я плакала, слушая эти записи, что случалось время от времени, и тайком утирала глаза рукавом — но не от горя или жалости. Я плакала от ярости, что этот отважный, сексуальный, непримиримый, трудный, невероятно талантливый человек умер в тридцать семь лет, что я живу в мире, где подобные массовые смерти допустимы, где никто из властей предержащих не остановил поезд и не освободил вовремя лошадь.
Войнарович выразил чувство не просто отстраненности от общества, а деятельного противостояния его структурам, его нетерпимости к другим формам жизни. «Мир штампованного изобретения» — так он сформулировал штампованно-изобретенное существование мейнстримового опыта, который кажется беззлобным, даже обыденным, стены его почти незримы, пока тебя по ним не размазало. Вся его работа — акт сопротивления главенствующей силе, порожденный желанием соприкасаться с миром и жить глубже, безудержнее. Лучший способ борьбы, какой Дэвид смог нащупать, — явить публике правду о своей собственной жизни, создавать работы, которые противятся незримости и молчанию, свое одиночество, происходящее из того, что тебе отказывают в существовании, из того, что тебя вычеркивают из истории, которая в конце концов принадлежит нормальным, а клейменым — нет.
В «Близко к ножам» он очень внятно описывает, что есть для него произведение искусства:
Являть предмет или текст, содержащие то, что незримо из-за законодательства или общественного запрета, в пространство вне меня самого — вот что позволяет мне чувствовать себя не так одиноко, мы вместе просто благодаря тому, что это есть. Это своего рода кукла чревовещателя, с той лишь разницей, что работа способна говорить сама или действовать наподобие «магнита» и привлекать к себе других, кто таскает в себе это навязанное молчание.
Это видение общественного и личного повлияло и на его мысли о смерти. Он не хотел поминок, друзей в безликом зале, рыдающих или слишком убитых горем, чтобы плакать. Хотел, чтобы ни его, ни чья бы то ни было еще смерть не оставались абстрактными, не прошли незаметно для остального мира. На поминках, которые он посещал все чаще в последние годы, ему иногда хотелось выбежать на улицу и вопить, заставить каждого прохожего увидеть происходящее разрушение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: