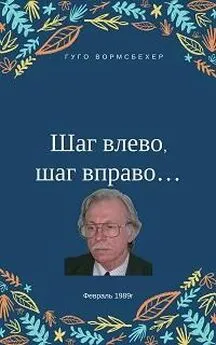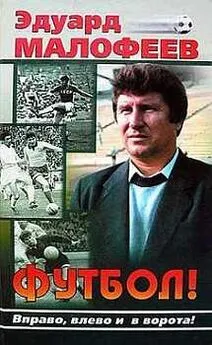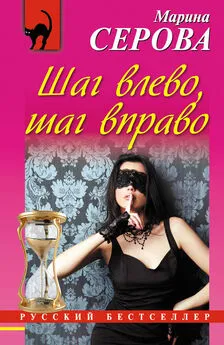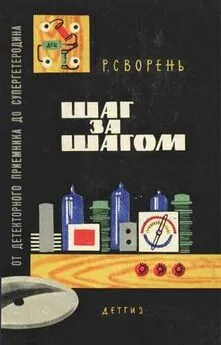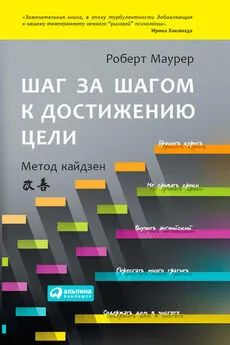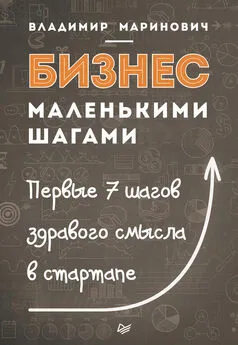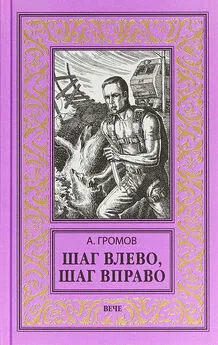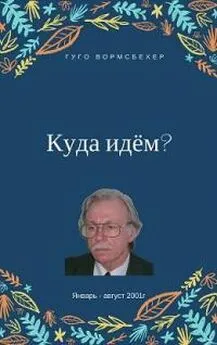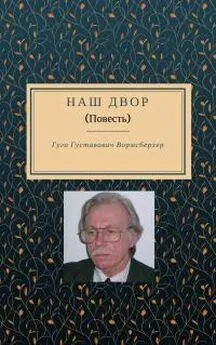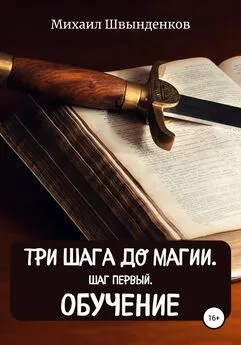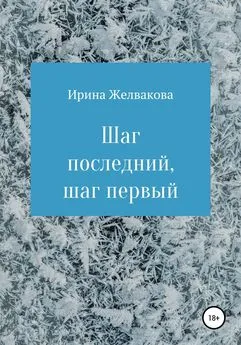Гуго Вормсбехер - Шаг влево, шаг вправо...
- Название:Шаг влево, шаг вправо...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гуго Вормсбехер - Шаг влево, шаг вправо... краткое содержание
В голой степи нашим предкам надо было как-то выжить в предстоящую зиму. Стройматериалов было мало, обещанных домов тем более, поэтому начали с землянок. Прошли годы и десятилетия, пока народ перебрался в деревянные и кирпичные дома.
В конце XIX — начале XX в.в. тысячам и тысячам наших дедов и прадедов пришлось повторить тот начальный этап нашей истории: нехватка земли заставила их перебраться в Сибирь, в Казахстан, в Оренбуржье. В дальнюю дорогу собирались тогда к лету, поэтому на новых местах опять оказались в преддверии осени и зимы, и снова пришлось начать с землянок.
В третий раз (если не считать "раскулачивания") начать с "нулевого цикла" вынуждены были уже практически все полтора миллиона советских немцев в 1941 году, когда, обвиненные Указом Президиума Верховного Совета СССР в пособничестве фашизму, они, за исключением попавших уже под оккупацию, были выселены из европейской части страны и с Волги в ту же переполненную болью, многострадальную Сибирь и в необъятный Казахстан. Это третье начало было самым трудным из всех, потому что люди был уже не званые желанные "гости", не экономическая "надежда" для диких земель, а "пособники врага", и получали не помощь, как раньше, а были при выселении лишены даже собственного имущества.
Видимо, философская спираль развития действительно существует, только наша история внесла в этот закон определенную поправку: процессы повторяются, но не обязательно на более высоком уровне…
Шаг влево, шаг вправо... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Более века эта литература была довольно бедной: землепашцы и ремесленники, главной заботой которых был хлеб насущный, не могли создать необходимую для развития литературы и искусства материальную, социальную и духовную базу. Только начиная с последней трети XIX века литература немецких колонистов получает заметное развитие — сначала на Украине и в Одессе, а затем и на Волге. Большая часть произведений, в том числе и наиболее плодовитых авторов, которым принадлежало иногда до десятка повестей и романов, были написаны — иначе и быть не могло — в духе преданности "царю и отечеству". Ближе к началу XX века усиливаются демократические тенденции в литературе колонистов. Наиболее заметные произведения этого направления — повести известного педагога и просветителя Августа Лонзингера, давшего замечательное изображение жизни и нравов поволжских колонистов и оставившего яркие образцы живой крестьянской речи ("Nor net lopper g'gewa", "Hüben und drüben" и др.)
К 150-летнему юбилею образования колоний в Поволжье в 1914 году были написаны, также в близком народу духе, большая поэма "Кистер Дайс" (автор Давид Куфельд), в которой помимо жизни и уклада колоний описан один из опустошительных набегов кочевников, и пьеса "Михель-Киргиз" (авторы Готлиб фон Гебель и Александр Гунгер) о необычной судьбе немецкого юноши, увезенного кочевниками и проданного ими в рабство, о любви к нему киргизской девушки Сулейки, дочери хозяина, которая, жертвуя ради свободы любимого своей любовью, помогает ему бежать из плена к его невесте.
В связи с большим влиянием на жизнь колонистов духовенства, роль которого до Октября была велика и в выпуске газет и книг, дореволюционная литература колонистов несет на себе, как правило, достаточно выраженный отпечаток религиозности — надо полагать, что это было и необходимым условием, чтобы произведение увидело свет.
Первые годы Советской власти отмечены активной поддержкой, которую оказали ей прогрессивные писатели, в первую очередь зачинатели советской немецкой литературы Франц Бах и Георг Люфт. Годы эти, однако, не привели еще к значительным произведениям не только потому, что "большое видится на расстоянии" и требовалась некоторая дистанция для осмысления и отражения произошедших событий, но и по той простой причине, что и в Поволжье, и на Юге Украины, т. е. в местах наиболее массового проживания немцев-колонистов, шла ожесточенная гражданская война, в которой и они не могли не принять участия. Только немцы Поволжья сформировали в первые годы Советской власти четыре полка, сражавшихся на разных фронтах против белогвардейцев, а также против германских оккупантов на Украине.
Одним из первых произведений, показывающих путь к Октябрю немецких колоний (на материале Юга Украины), стала художественно-публицистическая повесть Г.Люфта "Искры Октября".
"Два имени боролись за право вести трудящийся люд: месяцами рекламируемое, пустое, кометное имя бросающего взгляды влево и вправо Керенского — жалкой карикатуры революции; у него решительно оспаривало право руководить пролетариатом доселе нами тщательно укрываемое, зажигательное, планетарное имя — Ленин. Керенский тускнел, сходил на нет и стал дергунчиком буржуазии. В нас всё больше рос Ленин — как лозунг и оружие" [3] Georg Luft. Oktoberfunken. In: "Anthologie der sowjetdeutschen Literatur; B. 1. Alma-Ata, "Kasachstan", 1981, S. 160.
, - пишет в этом произведении автор.
И еще фрагмент:
"Победа — бедных. Тут же, ночью, избирается революционный Совет. Как его избирать? Никто не знает его структуры, никто не знает его программы. А, ерунда: просто избирают Совет рабочих, крестьян и солдат (большевиков). "Совет" — "большевики". Каким всё же дивным получился тогда этот сплав Совета и партии, каким верным и работоспособным! И разве нужна была еще специальная ячейка, чтобы вдохновлять нас на борьбу и на труд?" [4] Ebenda, S. 161
Такими искрами революционной убежденности брызжет это необычное произведение.
Советская немецкая литература двадцатых годов очень чутко реагировала на процессы, происходившие в русской литературе. Активно переводится на немецкий язык революционная поэзия. Кумиром для многих поэтов становится Маяковский. Большое значение имеет личный контакт советских немецких писателей и поэтов с русскими писателями и поэтами. Есть на кого равняться, есть с кого брать пример. Это помогает взломать национальную замкнутость дореволюционной колонистской литературы, расширить ее кругозор, проникнуться более масштабными идеями.
Вместе с тем советская немецкая литература переняла и яростный раскол среди писателей того времени, изматывающую групповщину с подменой художественных критериев политическими обвинениями. Определяющую роль в оценке творчества писателя начинает играть, как правило, его социальное происхождение. Драматизм процесса становления усиливается тем, что большинство писателей, точнее, литераторов, были тогда весьма молодыми, многие из них — начинающими, с еще не израсходованной "энергией заблуждения" (Л.Толстой). Позже, в тридцатые годы, трагичные для всей советской литературы, ситуация в советской немецкой литературе дополнялась мрачным оттенком обвинений в "проповеди фашистской идеологии" (достаточным поводом для которых было выражение своей любви к родному языку) со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В начале тридцатых годов, в преддверии I съезда советских писателей, были предприняты, вслед за всей советской литературой, попытки консолидации литературы. В декабре 1933 года состоялась конференция немецких писателей Украины в Харькове, в феврале следующего года — конференция немецких писателей Поволжья в Энгельсе, а в марте 1934 года в Москве прошла Первая Всесоюзная конференция советских немецких писателей, в которой активное участие приняли и писатели-эмигранты из Германии и Австрии и на которой многие писатели впервые увидели друг друга в лицо.
Четыре советских немецких писателя — Франц Бах, Герхард Завацкий, Андреас Закс и Готлиб Фихтнер — были делегатами I съезда советских писателей в 1934 году.
В тридцатые годы определенное влияние на советскую немецкую литературу оказали писатели-эмигранты, бежавшие из Германии и Австрии от фашизма в Советский Союз. Такие известные писатели как Иоганнес Бехер, Вилли Бредель, Эрих Вайнерт, Гуго Гупперт, Фридрих Вольф активно участвовали в литературном процессе, в работе писательских конференций, высказывали свои оценки произведениям советских немецких писателей, помогали им своими советами и опытом. Ряд эмигрантов надолго или навсегда связали свою судьбу с советской немецкой литературой, войдя в нее как полноправные ее представители (Зепп Эстеррайхер, Франц Лешницер, Эрнст Фабри, Рудольф Жакмьен, Гильда Анценгрубер) [5] Siehe: Woldemar Ekkert. Die Literatur der Rußlanddeutschen bis 1917 und der Sowjetdeutschen von 1917 bis 1957. In: "Anthologie der sowjetdeutschen Literatur", B. 1. Alma-Ata, "Kasachstan", 1981, S. 37.
.
Интервал:
Закладка: