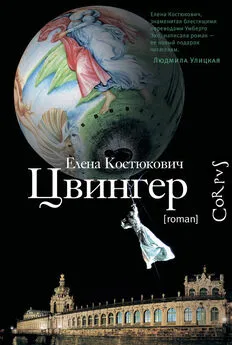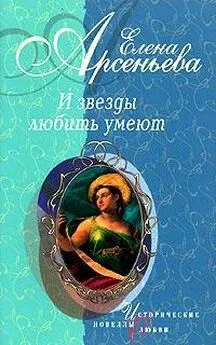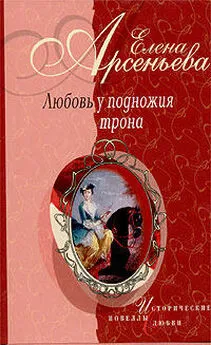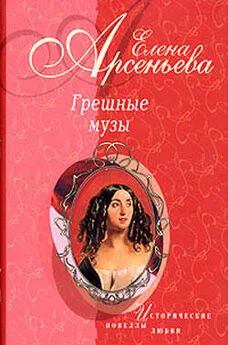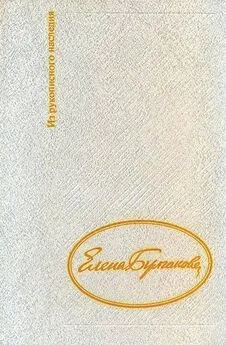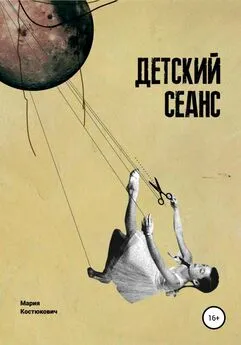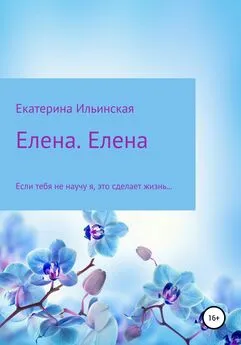Елена Костюкович - Цвингер
- Название:Цвингер
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ: CORPUS
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-080815-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Костюкович - Цвингер краткое содержание
Память, величайший дар, оборачивается иногда и тяжким испытанием. Герой романа «Цвингер» Виктор Зиман «болен» памятью. Он не может вырваться из-под власти прошлого. История его деда, отыскавшего спрятанные нацистами сокровища Дрезденской галереи, получает экстремальное продолжение во время Франкфуртской книжной ярмарки 2005 года. В водовороте захвативших Виктора приключений действуют и украинские гастарбайтеры в сегодняшней Европе, и агенты КГБ брежневской эпохи, и журналисты «свободных голосов», вещавшие во времена холодной войны и разрядки, и русские мафиози, колонизующие мировое пространство.
«Цвингер» многогранен: это и криминальный триллер, и драматическая панорама XX века, и профессиональный репортаж (книжная индустрия отображена «изнутри» и со знанием дела), и частично автобиография — события основаны на семейной истории автора, тщательно восстановленной по архивным материалам.
Цвингер - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Киев в двадцатые годы лопался от новых мод. В «Конкордии» — клубе Бродского — знакомились и самовыражались без удержу Эль Лисицкий, Александра Экстер, Шкловский, Козинцев, Юткевич, Эренбург, Бабель, Мандельштам.
И хотя еще не очищенная базарная площадь на Подоле, заставленная возами с задранными к небесам оглоблями, была такая, как век назад, и оперный театр был провинциальным, с оперой «Хованщина», но на сцене был разложен настоящий костер, а от костра плыл дым… У Симы перехватило дух. Свет! Чадный, копотный свет! Первая встреча с ремеслом. Бери выше — призванием.
Житомирская жизнь казалась теперь сырой, глиняной, сращенной с бытом полудикого, тяжеловесного, всегда подвыпившего крестьянина, который жил и умирал при лошадях. А в большом городе царила легкость и ходили по фигурным фронтонам блики от листьев каштанов, от промелька пролеток. Футуристы горлопанили, призывали «по стенке музея тенькать». Идея тенькать не понравилась Симе, а сами футуристы понравились.
Ни в какой институт Сима не мог попасть: из служащих, не из рабочего сословия. Проходи через завод, зарабатывай трудовой стаж. Даже норму дореволюционную еврейскую, трехпроцентную, легче было преодолевать, чем новый классовый отбор.
Сима двинулся в Питер, поступать для стажа на «Красный треугольник». Канцеров вскружил ему голову рассказами о житомирянине Акиме Волынском, как тот стал центром питерского декадентского круга и написал о Леонардо, создав фундамент, на котором выстроили «Италию сердца» и Мережковский, его современник, соперник и неверный друг, и позднее — Муратов. И хотя в двадцать восьмом Волынского уже не было в Питере, потому что не было в живых, и хотя уже затонул сумасшедший корабль «Дома искусств», тем не менее ученье в Ленинграде стало для Симы первоэлементом профессии.
Жалко, быстро оборвалась лафа из-за Лерочкиных капризов. Она так кокетничала в Киеве со сверстниками и с сокурсниками, что пришлось бросить Питер, ехать в Киев и предлагать брак. Лерочка для романа по переписке была не приспособлена. Сима стал отцом семьи и мужем в девятнадцать лет. И конечно, доказала жизнь, правильно сделал.
А в те четыре года, что прожил в Питере, Сима все же поучился в Академии художеств. И летал туда на крыльях по четной, солнечной стороне Невского, где исстари были дорогие магазины. Там еще оставалось много зеркальных стекол в витринах. Лопнули они позже, в блокаду. А тогда, в тридцатом, Сима еще бежал и видел в полный рост себя. Хотя памятных Ираиде медных ручек на дверях больше не было: их поснимали, реквизируя медь для Волховстроя.
Отстоит смену на галошном заводе, отсидит лекции в академии, поздно вечером — в книжную лавку. Исключительно благодаря знакомству с Ираидой. Это она похлопотала, чтобы Симу взяли на работу книгоношей. Книжники в те годы проводили все время на помойках. В двадцатые годы книги шли на растопку, но книжники их подбирали, сортировали и носили прицельно по клиентам.
Ираида и хотела бы держать его при себе, да сознавала, до чего богатое у него сейчас формирующее время. Пусть же читает все, бывает всюду, слушает, даже не понимая. Питает глаз и мозг.
И точно, Сима многое не понял, но напечатлел на пергаменте памяти. Успел посмотреть то, что вывезли и продали в начале тридцатых: тициановскую «Венеру перед зеркалом», «Святого Георгия» и «Мадонну Альбу» Рафаэля, многие вещи Рубенса, Рембрандта, Веласкеса, Шардена, Ватто.
Глянул — и все. После этого никогда уже после. Точно так же было в первый поход в Музей западной живописи. Импрессионисты, кубисты и фовисты, реквизированные после революции у Щукина и Морозова, очень скоро оказались под арестом, закрыты для публики и в Питере, и в Государственном Московском музее нового западного искусства. И до конца пятидесятых, до смерти Сталина никто не мог видеть в Эрмитаже ни лежавших в запасниках шедевров Моне и Ренуара, ни пастелей Дега, ни пейзажей Сислея и Писсарро, ни холстов Сезанна, Ван Гога и Гогена, ни Вламинка и Пикассо.
Сима что успел посмотреть — то заснял на мысленную пленку. В Музее западной живописи в конце двадцатых Сима замер, поднимаясь по лестнице. Стены двух пролетов были раздвинуты контурными фигурами Матисса. От их танца невозможно было оторваться. А Ван Гог, запомненный тогда, стал потом героем первой из его «художнических» книг.
Ираида приохотила Симу к Питеру. В ее рассказах из-под клеклой плесени, грязи и разора проявлялась переводная картинка — потри пальцем — Петербург довоенный: на Невском потоки цилиндров и котелков, «шаплеток» и страусовых перьев. Затем наползал туман, по мусору топал Питер военного коммунизма, истомленные голодом мерзнущие люди в ватниках, грязный снег укрывал торцовую мостовую. В квартиры бежавшей буржуазии, сопя, влезал пролетарий и незамедлительно разбирал саму же квартиру на дрова.
Ираида значила, вероятно, больше, нежели обучение в академии. Это она настояла, чтобы он не ограничивался ленинградскими театрами, съездил на недельку в Москву. Тогда Сима посмотрел и «Потоп» во Втором МХАТе, и Бабанову в Театре Революции, и театр импровизации «Семперанте». И ходил в экспериментальные театры, где подвешивали рояли к колосникам.
Живее всего Ираиду занимал свет. Они прочли и разобрали книг пятнадцать, судя по конспектам. Как ставился свет в итальянском театре семнадцатого века, во французском восемнадцатого, в российском девятнадцатого… Вычерчивали светильники (может, это Ираидины наброски морды позвоночного? мудрено отличить), у которых торчали уморительные рожки, а на рожках укреплялись масляные свечки или фитильки. Вот греки устраивались, говорила Ираида, гениально. Работали на воздухе, освещение простое: под сценой разводили костры.
— Как в Киеве в твоей дурацкой «Хованщине».
— Ну а пожары?
(Не предвидел, что в скором времени придется и ему освещать концерты фронтовых агитбригад по способу древних греков.)
— Спрашиваешь. Пожары, да. Поэтому итальянцы решали, что им делать, чтобы не горели театры.
И туда же новые приписки. Ледериновую, которую листает Виктор, «Театральную тетрадь» Ираидиных времен Лера возила в эвакуацию, Сима Жалусский дописывал ее и после войны. Чернила не выцвели, хотя побурели.
«Итальянцы. Один из первых опытов. 1513 год, Урбино. Постановка пьесы кардинала Биббиены „Каландрия“. Чтоб освещение получалось цветным, перед свечами ставили графинчики с цветными жидкостями… вишневым компотом!»
Сколько же научился потом, думал Вика, делать сам Сима со светом во время войны. Без электричества, ровно как в его любимом Возрождении, располагая или лучинами, или фугасками, или уж — другое дело — зенитными прожекторами! А выступления шефского коллектива в землянках он освещал, случалось, и открытым пламенем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: