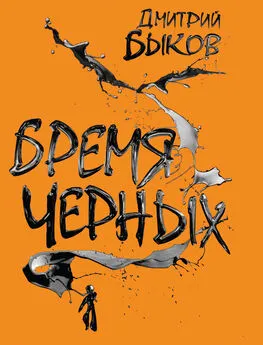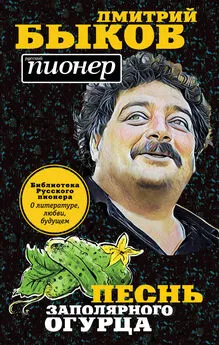Дмитрий Быков - Орфография
- Название:Орфография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вагриус
- Год:2003
- Город:М.
- ISBN:5-264-00741-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Орфография краткое содержание
Дмитрий Быков снова удивляет читателей: он написал авантюрный роман, взяв за основу событие, казалось бы, «академическое» — реформу русской орфографии в 1918 году. Роман весь пронизан литературной игрой и одновременно очень серьезен; в нем кипят страсти и ставятся «проклятые вопросы»; действие происходит то в Петрограде, то в Крыму сразу после революции или… сейчас? Словом, «Орфография» — веселое и грустное повествование о злоключениях русской интеллигенции в XX столетии…
Номинант шорт-листа Российской национальной литературной премии «Национальный Бестселлер» 2003 года.
Орфография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— Да, да, — рассеянно кивал он Трубникову. — Разумеется, непременно…
И неотступный, тревожный, восторженный взгляд жег ему щеку.
В последнее время Оскольцеву — узнику семнадцатой камеры, откуда накануне забрали Бельчевского, — отчего-то казалось, что бессмертие вообще есть вопрос личного выбора: душа может либо зажмуриться в последнюю секунду, испугавшись ослепительного блеска, — и тогда темнота станет ее уделом навеки, — либо, напротив, расправиться, до предела раскрыть глаза, если возможно говорить о глазах души; ну, скажем, — напрячь все способности к восприятию и взглянуть смерти в лицо. Тогда вместо смерти можно увидеть то, что за нею следует, — но и эта версия была несправедлива, по отношению хотя бы к тем, кто умирал в бессознательном состоянии. Одно время он думал даже о преимуществах смертной казни под хлороформом: в последнее время, он слышал, наркотизаторы нашли способ усыплять человека на сколь угодно долгое время одним, почти мгновенно действующим уколом; тогда момент смерти фактически подменялся моментом впадения в наркотический сон, — но этот наркоз как раз и лишал права жить вечно. Ему вспомнился рассказ одной из его недолгих подруг, некоей Тани, девушки умной, но ветреной, — об ее подруге, отказавшейся от хлороформа во время долгих и болезненных родов: «Как я могу пропустить такое интересное страдание?» Для него интересных страданий не было — за эту мелочность, трусость души он и расплачивался сейчас.
И все-таки, все-таки. Стоит сказать себе, что ничего нет, поставить на этом крест, вообразить себе, как хорошо было бы посвятить жизнь разоблачению поповской лжи и корысти, — как сразу за этой решительной констатацией открывается неразрешимый вопрос, почва немедленно оказывается зыбкой, предательской, и способ заменить страх ненавистью — единственно надежным лекарством — вновь рушится. Ибо и сжав веки до боли в глазных яблоках — видишь все-таки вспышку света, иного, не дневного; допустив на миг, что ничего нет, — тут же угадываешь за этим «ничего» неучтенное нечто. Избыточность человека была столь наглядна, что жизнь казалась бесконечно больше смерти, — но тут выплывал убийственный аргумент: смерть равна жизни, не станем от этого прятаться. Трагедия бесследного исчезновения человека соизмерима с величием самого феномена человека, и ни одна другая не достойна нас. Исчезнуть отсюда, но сохраниться где-то — в этом была половинчатость; человек же велик во всем, и существование его должно увенчаться великим отчаянием.
Эта мысль о величии участи ненадолго согревала, дарила еще один гипноз — но и он вскоре рассеивался, поскольку в том, чтобы терпеливо ждать бессмысленной гибели, не было никакого величия. Нельзя от человека требовать мужества; и если будут пытать… Если будут пытать, в этом будет то единственное преимущество, что смерть станет мыслиться как избавление. Мысль же о пытке неотступно присутствовала в его сознании потому, что непрерывную муку претерпевало его сознание, — сама собой являлась мысль о физическом выражении этого насилия; все-таки страшней заключения человечество не придумало ничего. Нет никакой свободы речи и мысли, а есть свобода толкнуть дверь и выйти из помещения; лишение этой свободы, естественной, как дыхание, не могло быть оправдано ничем. Пока Оскольцев в тысячный раз пытался помыслить себя вне тела, просачивался сквозь омерзительные, шершавые серые стены, удалялся по коридору навстречу сиянию дня, — спорщики дошли уже до пресловутого еврейского вопроса, обсуждавшегося в семнадцатой камере, впрочем, весьма мирно.
— Удивительное вообще дело еврейчики, — размышлял Ватагин. — Заметьте, какова двойственность их морали. Ведь они Новый Завет только для того написали, чтобы всех неевреев сбивать с панталыку! Посмотрите, что они разрешают остальным и что запрещают себе, — и увидите полное совпадение сих двух списков! Еврейские корчмари споили Русь — но часто ли вы видели пьяного еврея? Евреи настаивают на космополитизме — но часто ли вы видели еврея, женившегося на русской, или, того паче, жидовку, выданную за Ваню? Евреи призывают забыть о национальности, отменить ее — но ни один еврей не откажется от того, что он еврей!
— Вы скажете, что Америка или Европа погублены евреями? — язвил Гуденброк. — Дай Бог нам такой гибели!
— Погублены, и очень просто! Вы не видели, а я в Берлине два года жил. Вырождение и есть вырождение.
— А в России, значит, нет вырождения.
— И в России есть, но нам Господь дал такое православие, что оно бесконечно далеко от Христа. Мы Христа не восприняли, оставшись во многом язычниками, а потому он нам не так страшен. Вот это-то и чувствуют жидки, а потому Россия для них — главная кость в горле… была, покуда они с революцией народ не надурили. Да ничего, этот народ и их сожрет — дайте только время. Кроме нас, на них другой силы нет… Оскольцев молчал. Все это опять было мимо темы.
Крайний слева что-то делал, склонившись к огромному камню, обтесанному криво и грубо; небольшая группа справа стояла на коленях у костра, еще трое трубили в рога, четвертый неподвижно лежал рядом на спине, и на груди у него, молитвенно сложив руки, сидел пятый. Шесть фигурок в левом углу картины кружились в сложном и нерегулярном движении: двое плясали с поднятыми руками, еще двое скакали на одной ноге, пятый шел гусиным шагом, шестой упер руки в бока.
— Это встреча солнца в Барабулинских степях, — уважительно сказал Зуев. — Последние остатки альмеков празднуют свой ежеутренний праздник. Их согнали с насиженных мест году в триста двадцатом. Потомки рассеялись. Но я нашел памятники — вот эти камни. Рисунок выполнен местным художником Михеевым по моим указаниям. Он же и гравировал.
Пожалуй, местному художнику Михееву лучше всего удалась последняя сцена из долгой альмекской истории в картинках: в ней чувствовались тревога и свежесть, какие бывают утром после бессонной ночи. Полтора десятка человечков, кружась в бессмысленных, но строго регламентированных танцах, были явно обречены и стремительно приближали собственную гибель, не желая отказаться даже от самого невинного из своих правил; но солнце, встающее над ними, давало их игрищам оправдание, а им — надежду. Ясно было, что никто не выживает, ставка — на оправдание в вечности.
— Я намерен, — с достоинством заметил Зуев, — выступить в Императорском географическом обществе. Собственно, я бы и раньше… но интриги…
— Императора нет, но Общество цело, — обнадежил его Ять. — Теперь оно будет, конечно, преобразовано… Может быть, переименуют в марксистское.
— Но марксизм пасует перед альмеками, — с легким удивлением проговорил археолог. — Он так же не объясняет их цивилизации, как дарвиновская теория — по-своему, нет слов, стройная, — не объясняет бесконечного богатства природы. Столько расцветок, форм, хитростей, и все ради выживания? Увольте. Альмеки — первая цивилизация, у которой вовсе не было базиса в марксистском понятии, и уж поверьте, эта цивилизация не была единственной. Мы просто знаем не всё, история — вообще наименее изученная из наук… Но скульпторы острова Пасхи или строители Стоунхенджа — вы слышали о нем, конечно, — представляли именно этот тип общества. Уверяю вас, со временем будет прочитана и письменность майя, чья жизнь тоже состояла из бесчисленных сложностей. Взять календарь…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: