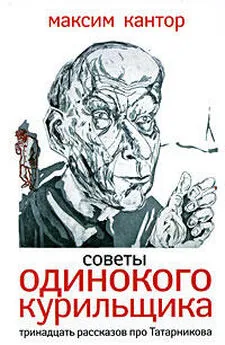Максим Кантор - Совок и веник (сборник)
- Название:Совок и веник (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель, Полиграфиздат
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-068477-9, 978-5-271-29138-8, 978-5-4215-1539-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Максим Кантор - Совок и веник (сборник) краткое содержание
В этой книге рассказов вы найдете и тонкий юмор, и грубую сатиру, и искреннюю горечь современника, желающего изменить мир к лучшему, и неподражаемую поэзию борьбы, противоборства и мужества.
Совок и веник (сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Особенность художника нового типа состояла в том, что его язык был по определению анонимен. Он совсем не умел рисовать и даже не собирался, – а значит, никто не мог бы его упрекнуть в том, что он рисует не так, как надо власти. Творцы создавали анонимную продукцию – годилась для картинок в советских журналах, а если поглядеть под другим углом, была на диво дерзкой. Постепенно этот мещанский кружок сплотился, оформил свои взгляды в наукообразной риторике, составил конкуренцию былому андеграунду – и победил. Прежде всего разительно изменился самый тип художника. Исчезли привычные для московских подпольных мастерских хмельная бравада и нищета, исчезли небритые пьяницы. Появились уравновешенные люди, опытные в беседах. Они не умели рисовать, но умели показать, что не умеют рисовать нарочно, это даже такая специальная миссия. Они демонстрировали опусы гордо, упирая на то, что сознательно делают их серыми, неряшливыми и противными, раз действительность сера и противна, и рисование уже невозможно. Этот кружок и этот образ мышления стали называть «вторым авангардом». Особенность его состояла в анонимности художественного языка. Никто из них не хотел говорить по-своему, но все хотели говорить по-современному.
Они все были какие-то одинаковые и одинаково неискренние. Нет, даже не так. Они все были значительными и прекрасными внутри своего кружка, а выйдя за пределы кружка, делались абсолютно незаметными; у них не было никаких ярко выраженных свойств – абсолютная и вопиющая серость. Каждый по отдельности – ноль, но вместе – грозная сила современного мышления. Они соткали такую среду, где их неумение выдавалось за умение. Словом, это был такой Советский Союз в миниатюре, все держалось на круговой поруке. «Я не умею рисовать, но ты называешь меня гениальным художником, потому что я выражаю твои мысли, хотя у тебя и нет мыслей». Такая многоступенчатая абракадабра. Когда к этой цепочке договоренностей добавились мнения западных кураторов, галеристов, аукционистов и богачей – неуязвимость позиций современного искусства сделалась полной. Никто уже не поминал, что точно такой же принцип круговой поруки властвовал и в советском искусстве, в рамках соцреализма. Считалось: в случае соцреализма круговая порука была порочной и лживой – а в случае современного рыночного искусства круговая порука выражает объективную истину.
Все эти концептуалисты слиплись в моем представлении в одно бесполое существо «кабаковпивоваровчуйковбулатов», это существо было похоже на настырную сороконожку, оно проползало в каждую щель, шевелило лапками, у него был липкий животик. Странное такое существо, мохнатенькое, зеленоватое. Рисовать никто из них совсем не умел, они все обладали навыками книжных иллюстраторов, причем иллюстраторов манерных и всеядных. Требовалось изобразить вождя и пионерскую линейку – так почему не изобразить? Оформляли книжки про пионеров и октябрят, на заказ рисовали для живописного комбината портреты вождей – и тут же, не меняя палитры, переключались на свое, сокровенное. Этим же именно умением, этими дряблыми линиями они рисовали свои концептуальные поделки. Впрочем, их зрители были столь же неискушенными людьми, как и сами художники – отличить хорошее рисование от плохого не могли, и мещане чувствовали себя в безопасности. Если же кто-то и говорил им: вы плохо рисуете, они отвечали: а мы нарочно плохо рисуем, потому что жизнь такая. Мы рисуем адекватно времени, в этом состоит свидетельство и концепция. Они были все какими-то удивительными пролазами, и главное, отличить одного концептуалиста от другого было абсолютно невозможно. Ну да, один ростом пониже, другой повыше – но этим различия, в сущности, и исчерпывались. (Позднее добавилось: удачливее – неудачливее, продажнее – непродажнее, но все-таки принципиальных отличий не обнаружилось.)
Произошло нечто очень странное, заслуживающее анализа не столько искусствоведческого, сколько философского. В истории искусств оппозиционное искусство от искусства официального всегда отличалась – искренностью. Как могло быть иначе? Официоз пользуется штампами, врет, дает лживую информацию, одним словом, официальное – это неискреннее. А неофициальное – это правдивое, отчаянно смелое, когда режут правду в глаза, когда рукописи не горят, это очень-очень личное, выстраданное, единственно возможное. Искреннее, потому и опасное для подлой власти. А тут вдруг вышло, что неофициальное искусство тоже весьма неискреннее. И многие даже растерялись.
Они говорили так. Вот, скажем, было официальное искусство Третьего рейха – а ему противостоял Бертольд Брехт. Это ведь совершенно разные позиции, и, соответственно, разные художественные средства. Во Франции XIX века были приняты лощеные изображения фасада жизни; но вот пришел Ван Гог и стал писать искренне, то есть оппозиционно парадному стилю. Или, скажем, Павел Филонов. Или Сезанн. Или Гойя. Они потому стали самими собой, что заговорили на собственном, незаемном языке, отвергнув язык салона. Это же понятно, это просто. А сегодня что получается? Соцреалистический академик рисует предельно фальшиво – и его идейный противник, художник оппозиционный, тоже рисует предельно фальшиво. Один не старается – так ведь и другой тоже не старается.
Мой друг, Андрей Цедрик недоумевал, как так может быть, что плохо нарисованная, фальшивая сцена – принадлежит официальному искусству, и точно так же плохо нарисованная, тоже фальшивая сцена – принадлежит искусству неофициальному. Ведь и то, и другое нарисовано неискренне, без души – в чем же оппозиция? Тут было от чего растеряться. Умственные люди ему объясняли: в одном случае фальшь не осознает себя фальшью, а в другом осознает. Вот эта самая рефлексия и отличает официальное от неофициального. То есть, недоумевал мой друг, если человек подлец и не знает этого, он более подл, чем тот, кто является подлецом нарочно? Ах, нет, говорили ему, ты ничего не понял. И ему пересказывали новеллу Борхеса «Пьер Менар, автор Дон Кихота», и прочее в том же духе.
Постепенно получилось так, что понятие искренности (а соответственно, и особого художественного языка, который по определению явление первичное, то есть искреннее) было из искусства удалено вовсе. Официальному искусству данное свойство не присуще, но и оппозиция с ним распрощалась. Помимо прочего, это имело еще и моральные последствия: люди развивали в себе неискренность и одновременно представляли новаторское искусство, оттого профессия художника вовсе утратила социальное значение. Отныне художник мог быть только успешным функционером рынка – но никто не ждал, что появится художник, который ответит за время, напишет «Расстрел 3-го мая» как Гойя, или «Смерть комиссара» как Петров-Водкин.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: