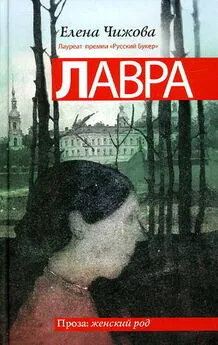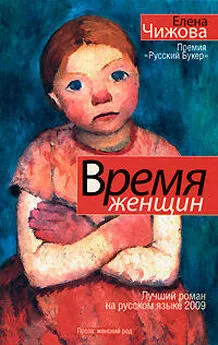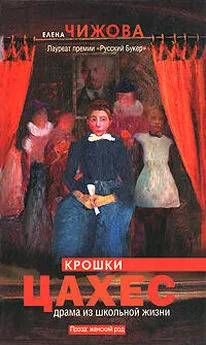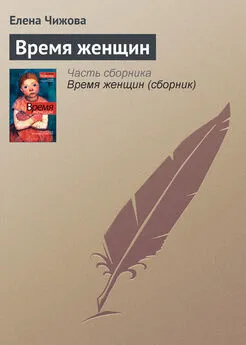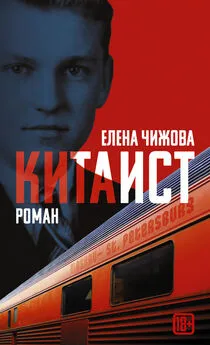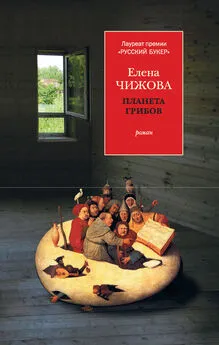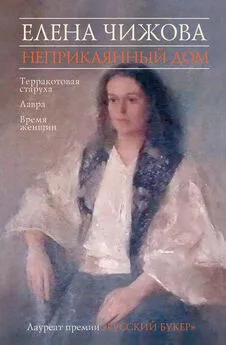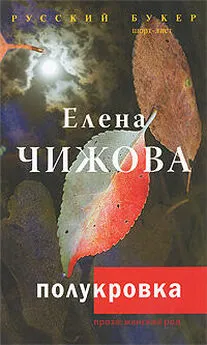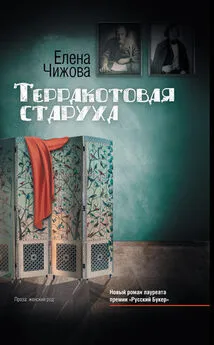Елена Чижова - Лавра
- Название:Лавра
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-071040-9, 978-5-271-32104-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Чижова - Лавра краткое содержание
На этот раз ее героиня – жена неофита-священника в «застойные годы» – постигает азы непростого церковного быта и бытия… Незаурядная интеллигентная женщина, она истово погружается в новую для нее реальность, веря, что именно здесь скроется от фальши и разочарований повседневности. Но и здесь ее ждет трагическая подмена…
Роман не сводится к церковной теме, это скорее попытка воссоздания ушедшего времени, одного из его образов.
Лавра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Вы?..» – он медлил. Я усмехнулась. Обещание, данное по телефону, держало меня. Нет, я думала, дело не в обещании. Так или иначе, я не смогла бы во всех подробностях. «Что ж, – я кивнула, – если это необходимо, могу рассказать».
Осознавая, что ступаю по грани, едва ли уместной с принявшим монашество, я говорила короткими фразами, не упоминая ни Митиного имени, ни особенных обстоятельств. «Вы, – он назвал меня по имени-отчеству, – собираетесь вступить в новый брак?» – «С житейской точки зрения, если оставить в стороне формальности, можно сказать, это уже произошло».
Глаза блеснули остро: «Если я правильно вас понял, браком вы называете союз, не засвидетельствованный, – он помедлил, подыскивая замену, – …людьми и не освященный церковью…» – «Мой опыт, в отличие от вашего, ограничивается личными обстоятельствами. В известном смысле его можно назвать еще более ничтожным, – заходя издалека, я мягко отбивала подачу, – поэтому лично мне иногда кажется, что многое в жизни определяется не свидетельствами, а ходом вещей…» Острые глаза собеседника стали тридцатилетними. Он был младше их всех, кого я, измученная их одержимостью, назвала поколением своих любовников и мужей.
«Ходом вещей? – он переспросил. – Вы имеете в виду, что обстоятельства порой оказываются сильнее нас?» Смерть владыки Никодима поставила его перед выбором: посмертная верность вступала в противоречие с ходом вещей.
«Нет, – я ответила, – не всякие. По крайней мере, не житейские. Любовь и ненависть, рождение и смерть…» – «Это – правда, – он перебил, примеривая к своей жизни. Личный опыт, на который я заставила его опереться, играл на моей стороне. – Однако, – он пересиливал личное, – все, что вы теперь перечислили, в человеческом обществе подлежит, как бы это сказать, не то чтобы регулированию… Но даже если оставить в стороне церковь и таинства, многое из перечисленного вами подлежит общественному признанию». Он высказал неловко, но я поняла.
Я тоже чувствовала неловкость. Пост, который он занял ходом вещей , мешал говорить свободно. Во всяком случае, я не могла сказать ему главного: те, на кого он опирается, надеются использовать его. Но, как бы то ни было, мне казалось, ему нравится почтительная легкость моего тона. В кругу подчиненных, исполненных иерархической бессловесностью, ему дышалось тяжело.
«Ваш довод, владыко, при всей его кажущейся привлекательности, лично мне представляется сомнительным. – Нетерпеливо кусая нижнюю губу, он дожидался развернутого ответа. – Этот довод работал бы только в одном случае: если бы нам пришлось доказывать наше биологическое отличие от животных. Вы считаете, нужны доказательства?»
Я жалела о том, что у меня связаны руки. Тому, кто прожил жизнь внутри комсомольского оцепления, не расскажешь всей правды. Не то чтобы наша правда была особенной… Можно подобрать слова. Пусть не впрямую – обиняками: в этом искусстве мы все, замороченные скверным временем, были сильны. Привыкшие жить в окружении призраков, самым зловещим из которых был призрак телекрана , умели находить двоедушные формулировки, чтобы – если понадобится – вывернуть наизнанку. Однако про себя мы имели ясное представление о том, где лицо, а где изнанка. В разговоре с владыкой все было безнадежнее и сложнее. Слово, произносимое по разные стороны комсомольского оцепления, существовало в разных системах координат. Их и наши слова означали разное . Взять прелюбодеяние… В это слово мы и они вкладывали разный смысл.
Словно касаясь обреза бахромчатой книги, я говорила, что исторически человек перерос животное настолько, что любая попытка найти этому доказательство оборачивается изощренным мучительством.
«То, что вы называете человеком, в действительности не существует: церкви приходится иметь дело не с человеком, а с народом, еще точнее говоря, с людьми. Все люди разные. Среди них встречаются и такие, которым именно это и приходится доказывать».
«Если церковь, – я говорила осторожно, подбирая слова, – как и тысячи лет назад, все еще стремится доказать принадлежность каждого человека к человеческому роду, причем критерием этой принадлежности избирает покорность традиции, она перестает быть духовным телом народа. Становится новым родовым институтом. Попросту говоря, первобытным».
«Первобытным? – владыка переспросил настороженно. – Вы имеете в виду бессилие дикаря в борьбе с природой?..» Я покачала головой.
Разве я могла сказать ему, что полагаясь на людей, которым он надеется доказать их принадлежность к человечеству, он тем самым отворачивается от нас ? В моих словах не было бы высокомерия. Просто те, кого он назвал народом , отличались от нас не биологически, а исторически, и эта разница заключалась не столько в опыте собственной жизни, сколько в стремлении переосмыслить другой опыт, доставшийся по наследству. Они, составляющие его народ , для которого он готовился стать первосвященником, каждый раз начинают заново – с момента своего рождения. Другие, меньшинство, которое отец Глеб полагал чуждым народу, а Митя называл монотеистами, не могут отрешиться от опыта, доставшегося в наследство от поруганных отцов.
Даже с ним, сделавшим церковную карьеру, мы полагались на разный опыт – как будто прочли разные книги. В отличие от моих, бахромчатых, которые владыка провозил беспрепятственно, через депутатский зал, его книги уходили в давние времена, точнее, отстояли от нашего времени почти на два тысячелетия, и в этом была их правда. Она заключалась в том, что за этот срок они успели стать почти безличными, вобрали в себя слишком много, чтобы кто-то, чья память ограничивается несколькими десятилетиями, мог надеяться их в чем-то убедить.
Тогда, в свои двадцать пять лет, я не могла сказать этого прямо. И не потому, что боялась. По-настоящему я просто этого не знала: учителя, учившие меня жизни, не могли передать того, что называется социальным опытом . Этот опыт появляется лишь тогда, когда что-то меняется в общественной жизни. Настоящее, которое нам досталось, было вечным и неизменным, душным и тягостным, как дурная бесконечность. В 1980-м нам казалось, что будущее, если речь идет об этой стране, никогда не наступит.
Во всяком случае, в том памятном разговоре с владыкой Николаем я не могла знать ни своего, ни, главное, его будущего. Разве я могла предположить, что наши потомки, своими глазами увидев будущее, обратятся к нашему прошлому и, заглядывая в него, как в зеркало, станут искать и находить в нем хорошее , и наше прошлое, которое все мы, до самой смерти, будем считать помрачением, многим из них покажется подлинным и настоящим?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: