Александр Иличевский - Матисс (Журнальный вариант)
- Название:Матисс (Журнальный вариант)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Иличевский - Матисс (Журнальный вариант) краткое содержание
Александр Илличевский - лауреат премии имени Юрия Казакова (2005); финалист Национальной литературной премии "Большая Книга" (2006; 2007); финалист Бунинской премии 2006 года (серебряная медаль), лауреат премии "Русский Букер" 2007 года за роман "Матисс".
Роман публиковался в журнале «Новый Мир», №№ 2-3 за 2007 г.
Матисс (Журнальный вариант) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ей нужно было, чтобы с ней говорили: рассказывали, спрашивали. Всю жизнь с ней говорила мать. Всегда. Читала, общалась, рассказывала, обсуждала. Заставляла читать книги. Ей было тяжело читать книги. Ей было трудно отвечать. Мука выражения жила в ней больным, жгучим комом. Слова жили как бы отдельно от нее. Они не приносили удовольствия, так как никогда не были похожи на то, что их породило.
Страшно было то, что она не заметит грани. Вадя говорил с ней. Он говорил, хоть и не слушал — и не очень-то хотел, чтобы она с ним говорила. Иногда пел. Но этого было недостаточно. Требовалась та методичность, с какой мать выцарапывала ее из небытия.
В этом была жизнь матери. Она вся была вне себя: в своей речи — в своем выражении, в говорении с дочерью обо всем. О родственниках, о еде, об экзаменах, об умении о себе позаботиться, о том, какие бывают люди: добрые, злые, равнодушные. Она помнила, как мать говорила ей, больше она почти ничего не помнила:
— Сторонись худых. Они потому худые, что чем-то расстроены. И это расстройство может повлиять на их отношение к тебе.
С помощью зубрежки и двух взяток в приемную комиссию они с мамой поступили в техникум. Там над Надей смеялись, но учиться она стала сносно. Учителя пожимали плечами. Студенты, иногда сами плохо понимая по-русски, все равно смеялись, но уже подтрунивали друг над другом: дурочка, а учится лучше некоторых.
И никто не знал, что все, что она выучивала, забывалось на следующий день. И к экзаменам приходилось начинать все заново.
Вся ее жизнь была учебой, погоней за нормой, за жизнью. И воспринимала она свою участь безропотно, с механической незамысловатостью.
XXV
Надя хорошо помнила только малозначащие вещи. Например, она отлично — стоило только прикрыть глаза — помнила, как пах изнутри футляр маминых очков. Он пах тем же дубленым замшевым запахом, каким благоухал магазин спортивных товаров — в глубоком детстве, в одном каспийском городке. По изнурительной от зноя дороге к прибрежному парку (взвинченный йодистый дух горячего, как кровь, моря и густой смолистый запах нагретых солнцем кипарисов). После раскаленной улицы, с асфальтом — топко-податливым от пекла подошвам, — блаженство пребывания в магазине начиналось с прохлады и именно с этого будоражащего запаха. Далее следовал завороженный проход по двум заставленным спортивной утварью залам: бильярд, теннисный стол, боксерская груша, корзина с клубками канатов и — тумба, крутобокая, обитая бордовым плюшем, с свисавшими, как с пугала, суконными рукавами — нарукавниками, как у писаря без головы, стянутыми в обшлагах резинками. Тумба эта предназначалась для слепых операций на фотопленке. Особенно увлекательными на полках были наборы нард, шахмат и бадминтона. Невиданные, перисто-пробковые воланы, кувыркаясь меж звонких ракеток по белой дуге стремительного воображения, отдавались на вздохе трепетом — легким, как шорох маховых перьев по восходящему пласту.
И главное, что вспоминалось, — что так влекло ее внутрь этого замшевого запаха, исподволь и неодолимо, как затмение. Этим вожделением было солнце: великолепный кожаный, белый и тайный, как Антарктида, сияющий дробным паркетным глянцем волейбольный мяч.
XXVI
Теперь ум немел, она знала это, так как стала чувствовать его отдельность. Так человек, теряя чувствительность нервных окончаний, начинает относиться к своим членам как к частям постороннего тела.
Вот это расстройство ума обладало цветом, формой и голосом. Оно было большой серой птицей, подбитой палкой калекой. Она садилась на крепкую ветку, росшую из правого виска, и хрипло вздыхала, подтягивая перебитое крыло.
Думанье давалось все труднее. Птица садилась на ветку все чаще, все сильней из бокового зрения нарастала ее тень. Иногда Наде больно было думать. Когда раз за разом у нее не получалось сквозь боль найти решение “в столбик”, она кусала себя за запястье, била рукой об руку, ревела без слез.
Но успокаивалась, и равнодушие появлялось в лице, тяжелое безразличие.
Слабоумие проникало в Надю онемением. Ей казалось, что она превращается в куст. Небольшой куст, неподвижный от непроходящей, тупой боли. Что мир вокруг превращался в ветер — тихий или сильный, но только он — единственный, кто мог дотронуться до куста, потянуть его, отпустить, согнуть, повалить порывом.
А иногда у нее получалось. Страницу за страницей тогда она исписывала сложением в столбик. Для задач подбирала у магазина кассовые чеки, в конце чека давался ответ. Набирала их полную горсть — и суммировала все покупки. Тщательно, с высунутым языком, кусая авторучку. Она записывала ответы и приписывала в конце свое имя: Надя. Она не то что боялась себя забыть, но так ей проще было сопоставить себя с этими числами, с тем, что это она делает, а не посторонний человек. Это с ней случалось сплошь и рядом, когда забывала, что вот к таким предметам имела отношение. Что это она написала. Что это она вырезала ножом эту картонную куклу. Надя. Так зовут куклу. Написано вот здесь, у нее на коленке. Самое трудное — это дать имя. Надя не знала никаких других имен, кроме — Мама.
Не зная, насколько отдалилась, она все равно ободрялась.
Но отброшенный страх, упав глубже, скрытней, усиливался.
XXVII
.......................................................................................
Глава седьмая
ЗООСАД
XXVIII
Надя могла просто сесть на стул или на чистый краешек — аккуратно, чинно, прямо, положить ладони на колени и, время от времени вздыхая, смотреть вверх чуть улыбаясь, с сияющими глазами, чуть подвигаясь, ерзая на стуле, снова и снова, глубоко вбирая воздух, исполняться тихой радостью ожидания. Так она могла сидеть часами, широко раскрыв глаза в невидимое счастье.
Характером Надя была не робкого десятка, но неуклюжа. Не так делала, как хотела, а если скажет, то не так или не то, что надо. Так и Вадю любила — неловко: сказать ничего не умеет, а навспрыгнет, навалится, играючи, заиграет, защекочет: любит, хохочет, а потом тут же, внезапно принималась плакать, плакать от стыда, бормотать, улыбаться, мычать, гладить Вадю — и его жалеть тоже.
Одно время Надя мечтала, как они снимут комнату, что у них будет свое хозяйство, электрическая плитка, что заведет она котенка, будет кормить его из донышка молочного пакета. Совершенство быта Надя представляла электрической плиткой.
У них с мамой в Пскове имелась электрическая плитка: в двух шамотных кирпичах шла петлями выбитая бороздка, по ней бежала спираль накала. Над плиткой, завороженная прозрачным свечением, Надя грела руки, подсушивала хлеб. Мать давилась свежим хлебом, ей проще было сосать сухарь.
Вадя и думать не хотел ни о какой комнате, ему непонятно было, зачем отдавать за пустое место деньги. Его вполне устраивала сухомятка (их рацион в основном состоял из хлеба и сгущенки) и ночевки на чердаках, в брошенных вагонах. Правда, доступных подъездов становилось все меньше, но все равно к зиме можно было что-нибудь подыскать: Пресня большая, есть на ней и Стрельбищенка, и Шмитовские бараки. Был, в конце концов, теплый туалет, на Грузинской площади, к ключнице которого, Зейнаб, у Вади был свой ход. Там он любил повальяжничать, налив себе в подсобке кипяток, а то и кофе — чтобы посидеть в тепле под батареей (небольшие, хорошо прогреваемые помещения всегда ценились бомжами).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
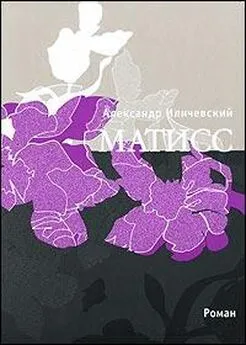
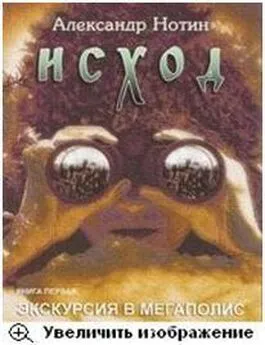

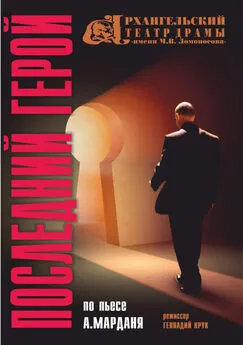
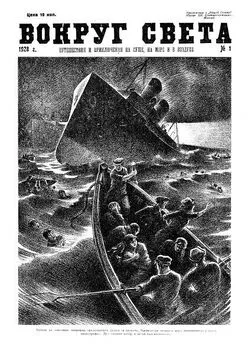
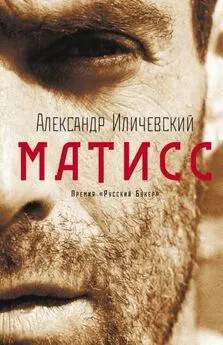
![Александр Аннин - Бабушка [журнальный вариант]](/books/1094470/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant.webp)

