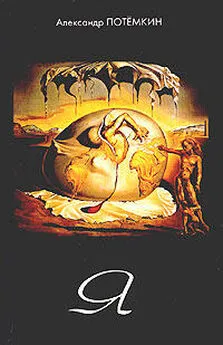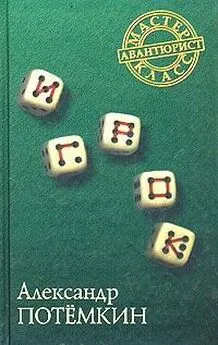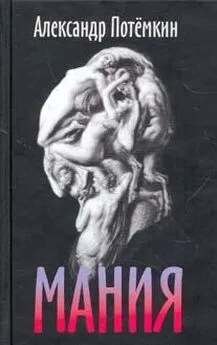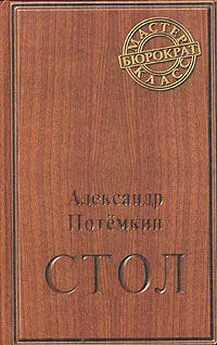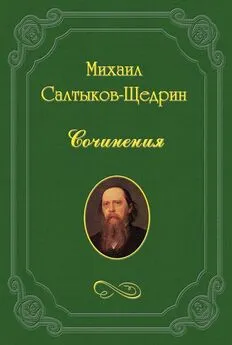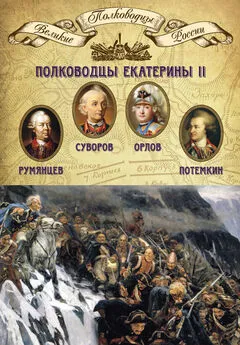Александр Потемкин - Я
Тут можно читать онлайн Александр Потемкин - Я - бесплатно
полную версию книги (целиком) без сокращений.
Жанр: Современная проза, издательство ИД «ПоРог», год 2004.
Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст)
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:Я
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ИД «ПоРог»
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-902377-10-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Потемкин - Я краткое содержание
Я - описание и краткое содержание, автор Александр Потемкин, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
С детства сирота Василий Караманов столкнулся с жестокостью и низостью людей. Озлобившись, не желая считать себя одним из них, он начинает искать доказательства ущербности человеческого рода. Как исправить положение, ускорить эволюцию, способствовать появлению нового, высшего вида разумных существ?..
Философско-психологическая повесть Александра Потемкина разворачивается как захватывающий поток сознания героя, увлекает читателя в смелый интеллектуальный и нравственный поиск, касающийся новых эволюционных путей развития человечества.
Философско-психологическая повесть Александра Потемкина разворачивается как захватывающий поток сознания героя, увлекает читателя в смелый интеллектуальный и нравственный поиск, касающийся новых эволюционных путей развития человечества.
Я - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Я - читать книгу онлайн бесплатно, автор Александр Потемкин
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
Тогда мне самому часто хотелось быть одинокой бродячей собакой, в которую всякий норовит бросить камень или выкрикнуть вслед злобную брань. Вот откуда все пошло! Вот где начинался мой сложный путь к решению, которое я давеча принял. С самого раннего детства меня увлекал конфликт между мной и обществом; увлечение это, как видно, осталось на всю жизнь. В десять лет я выкинул другой дерзкий фортель, после чего меня стали ненавидеть даже сверстники. Футбольный матч нашей городской команды с обояньским «Колосом» в самом начале сезона вызвал большой интерес зрителей. Трибуны были переполнены. Их на нашем стадионе было две: западная и восточная. На юге, за футбольными воротами, высилась трехметровая кирпичная стена по всей ширине футбольного поля. Северные ворота были огорожены пятиметровой высоты металлической сеткой. Я знал, что никак не смогу попасть на футбол: откуда у сироты деньги на билет! В тот день я заготовил острое шило, спрятался за прогнившей калиткой овощного погреба в восьми метрах от южной стены стадиона и стал ждать начала встречи. В самом начале сезона футболисты часто бьют мимо ворот. На это я, десятилетний Василий Караманов, как раз и рассчитывал. Уже спустя несколько минут после начала матча мяч перелетел через стенку и буквально плюхнулся мне в руки. Я тут же нанес ему три-четыре удара шилом, бросил его на открытое место и снова спрятался за калиткой. На это у меня ушло не больше одной минуты. Еще через минуту на стене появился боковой судья. Увидев спущенный мяч, он послал за ним какого-то юного спортсмена, а сам оповестил главного судью, что мяч напоролся на острый предмет. Игра продолжилась. Через десять минут эпизод повторился. С неимоверной радостью я наносил мячу новые удары шилом; потом спрятался в прежнем укрытии. Опять возник боковой судья, опять были крики, что нужен новый мяч. В первом тайме так повторилось четыре раза. Перед началом второго тайма на стенке оказался какой-то спортсмен. «Что, будет охранять мячи? — подумал я. — Надо искать новый ход!» Когда пятый мяч перелетел через стенку стадиона, «охранник», стоявший на ней, стал спускаться. Конечно, спускался он к мячу — а значит, и ко мне, — спиной. Я мигом схватил мяч, залез на высокий тополь, стоявший рядом, и укрылся в апрельской листве. После продолжительных поисков спортсмен увидел меня на дереве и спросил: «Эй, пацан, слышишь, ты не видел, куда мяч подевался?» Я спрятал мяч между упругими ветками, слез с тополя и с нарочито покорным видом развел руками: дескать, отвлекся в этот момент. Менял место на дереве. А сам подумал: «Не пускаете на стадион, ненавидите меня, страдать вынуждаете — теперь сами мучайтесь». «Слушай, — сказал спортсмен, — я на стенку поднимусь, а ты покарауль здесь. Последний мяч у нас остался». — «А как же я футбол смотреть буду?» — с наивным видом спросил я. «Подзатыльников захотел получить? Стой здесь, не то уши надеру! Знаю я тебя, жидовский помощник с местной живодерни!» — приказным тоном бросил он. Я подумал: «Ах так, признал! Ну, я вам сейчас устрою! — Однако сказал другое: — Хорошо, дяденька, буду караулить мячи. Только вы меня не бейте». Впрочем, совершенно другая мысль пронеслась в голове: «Только руку подними, я тебя со стены сброшу! Нашелся тут храбрец, мальчишку бить! Во мне всего двадцать пять килограммов! Герой!» Спортсмен поднялся на стенку, закричал, что мяч не найден и что охрана усилена. Через двенадцать минут мяч опять перелетел на мою сторону. Я подбежал к нему и взял в руки. Шила с собой питан Подобед из детской комнаты милиции. На мотоцикле он доставил меня в свой покосившийся офис и с невероятной злостью оттаскал за уши. Этот ментовский прием я помню по сей день. Когда мои уши стали походить на огромные пельмени, он поменял тактику и начал требовать от меня, чтобы я уговорил свою тетку, у которой жил, написать заявление с просьбой отправить меня в детский дом из-за недостатка средств и сил для моего воспитания. «А где такой детдом?» — сквозь слезы спросил я, думая уже о другом. Мне тогда нестерпимо захотелось свести к минимуму мир своего общения. Именно в детской комнате милиции у меня впервые появилось это еще не совсем осознанное стремление к одиночеству. Ведь все вокруг было так чуждо, так глубоко враждебно! «Моя тетка такого заявления не напишет», — с искренним сожалением сказал я тогда Подобеду. «Как так? Почему?» — насторожился тучный неказистый мужичок, сопроводив свой вопрос отрыжкой сала, чеснока и самогона. «Кто ей бутылки будет собирать? Кто тару сдаст, чтобы ей на “Имбирную” хватило? Ведь она без водки дня не проживет. Я до сих пор по выходным дням ее еврейскими деньгами снабжаю. Без них она просто погибнет. А в будни по улицам пустые бутылки собираю». Почесал тогда капитан свою невыразительную голову, видимо, подумал, сделал несколько телефонных звонков и выложил мне новое предложение: «Тогда, негодяй, пиши заявление сам на имя начальника милиции, что тетка твоя, как ее… Пелагея Свияжская, в дальнейшем — П.С., свои обязанности по опекунству не выполняет. Регулярно пьет, алкоголичка, поэтому ты голый и босый, а желудок у тебя постоянно пуст. Понял? Найдем тебе приличный детдом, а ее направим в ближайший лечебно-трудовой профилакторий. Может, она завяжет с пьянством. Сколько ей лет?» — «Старушка, — сказал я, — на несколько лет старше моей умершей матери. Ей уже больше тридцати. Но я никогда не сдам ее в ЛТП. В детдом, правда, хочется. Но это вовсе не значит, что я готов заложить собственную тетку. Нет! Любой ценой никогда ничего делать нельзя. Особенно мне!» — «Почему “особенно тебе”?» — с любопытством спросил меня мелкорослый Подобед. «Я ведь сам по себе. Таким людям опасно давать волю фантазиям». Капитан милиции, видимо, ничего не понял. Он опять почесал свой облысевший затылок, сделал еще несколько телефонных звонков и заявил: «Поедешь в Недригайловскую детскую колонию. Это несколько южнее Сум. Туда, правда, направляют с тринадцати лет. А тебе еще нет одиннадцати. Не страшно, в сопроводительных документах напишем другой год рождения. И метрику новую вручим. Тетка твоя, Пелагея Свияжская, пойдет этапом прямо в Жиздринский ЛТП. А в вашу квартирку нового участкового вселим. Улучшим жизнь каждого. Как партия учит! Но главное — избавим город от мусора». Так 14 апреля я навсегда оставил свой родной Путивль, заочно попрощавшись с тетушкой — милой, но вечно пьяненькой женщиной. Капитан Подобед даже не пустил меня домой забрать свои вещи. Правда, бог с ними, с этими тряпками, — но я навсегда лишился фотографий родителей. Я стал как бы человеком ниоткуда. Именно такого беспризорника, лишенного своих родственных корней, обретшего в тяжелой детской жизни стойкие повадки одинокого сорванца, повезли на попутных машинах в сопровождении милицейского сержанта в поселок городского типа Недригайлов, в детскую колонию. Разница между детдомом и колонией была существенная. Обитателями детдома были сугубо гражданские дети, по разным причинам лишившиеся родителей: гибель на вьетнамской и ближневосточной войне, пьянство, проституция, долгий тюремный срок, смерть. Детдомовских опекало само государство, а мы в колонии находились почти на арестантском положении. Кормили и одевали нас из бюджета органов внутренних дел, а за каждым нашим шагом с вышек наблюдали мордастые прапорщики внутренних войск — правда, безоружные. В колонии малолеток было около трехсот человек. Среди них оказался и я, Василий Караманов. Несмотря на радость, что окружающий мир для меня сузился, стал более понятным, менее истеричным и могущественным, жить все чаще становилось невмоготу. Ежедневно я сталкивался с вещами, которые никак не хотел воспринимать мой взрослеющий разум. Ну зачем, к примеру, было взрослому человеку бить мускулистой ногой такого мальчишку, как я? Или заставлять хлебать пустые, обезжиренные щи носом? Подкладывать в почерневшую от стирок без мыла постель клопов? Постоянно лишать сна криками «подъем!», вынуждать онанировать на слово «КПСС», слизывать грязь с их сапог? Неужели затем, что охранники смеялись, когда клопы наслаждались нашей кровью? Что они по-настоящему радовались, когда их ноги касались наших сухих, неокрепших ребер? Испытывали оргазм, когда наши языки касались их кирзовой обуви? Облизывались, когда мы, голодные, втягивали своими носиками воняющий падалью суп? Как мне надо было понимать мир, в который меня так беспощадно втолкнули? Что я вообще должен был думать о людях? Кто они? Что они за чудовища? Кем я мог представить себя в будущем? Человеком или каким-то другим существом? Но каким именно? Ведь на самом деле выбора не было. Человек — или крыса, мышь, жираф, волк! «Кем же стать? — думал тогда я. — Неужели похожим на этих скотов типом? Если я начну к ним прислушиваться, постараюсь их понять и оправдать, значит, в моем сознании возникнет полное прощение их поступков, поведения, образа мыслей. Но прощая, я становлюсь таким же, как они. А ведь именно этого я категорически не хочу. Не желаю! Боюсь! С другой стороны, что толку возмущаться и страдать? Надо искать себя!» Вместо четвертого класса, в котором я с горем пополам учился в Путивле, в колонии я попал в пятый, самый младший. Сузившийся вокруг меня мир не обрадовал меня, не дал внутреннего успокоения. В огромном мире Путивля у меня было намного больше возможностей противостоять агрессии посторонних, направленной на моеЧитать дальше
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать