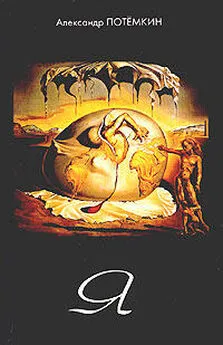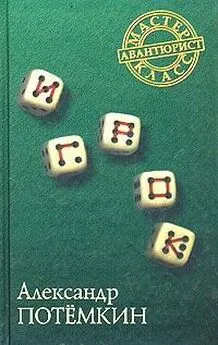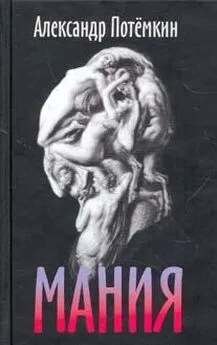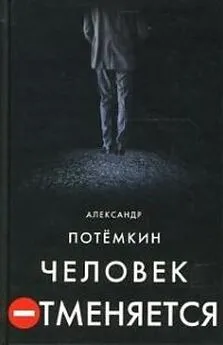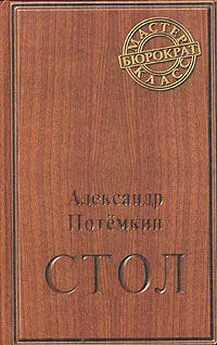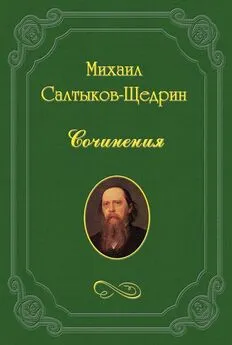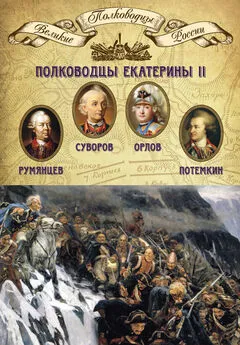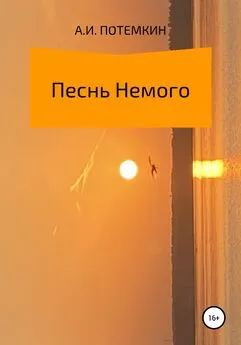Александр Потемкин - Я
Тут можно читать онлайн Александр Потемкин - Я - бесплатно
полную версию книги (целиком) без сокращений.
Жанр: Современная проза, издательство ИД «ПоРог», год 2004.
Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст)
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:Я
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ИД «ПоРог»
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-902377-10-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Потемкин - Я краткое содержание
Я - описание и краткое содержание, автор Александр Потемкин, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
С детства сирота Василий Караманов столкнулся с жестокостью и низостью людей. Озлобившись, не желая считать себя одним из них, он начинает искать доказательства ущербности человеческого рода. Как исправить положение, ускорить эволюцию, способствовать появлению нового, высшего вида разумных существ?..
Философско-психологическая повесть Александра Потемкина разворачивается как захватывающий поток сознания героя, увлекает читателя в смелый интеллектуальный и нравственный поиск, касающийся новых эволюционных путей развития человечества.
Философско-психологическая повесть Александра Потемкина разворачивается как захватывающий поток сознания героя, увлекает читателя в смелый интеллектуальный и нравственный поиск, касающийся новых эволюционных путей развития человечества.
Я - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Я - читать книгу онлайн бесплатно, автор Александр Потемкин
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
их учреждение пришло чудовище, надел купленный заранее костюмчик китайского производства, башмаки из Вьетнама и направился в известный столичный театр. Моросил дождь. Я поднял воротник пиджака, но с моей рыжей шевелюры вода продолжала предательски скатываться за воротник. А на мокром асфальте дешевая обувь размякла и при каждом шаге пузырилась, словно банная губка. На доске служебных объявлений с трудом прочел мелкий почерк: «Театру требуются рабочие сцены. Справки в отделе кадров». В каком же еще качестве мог я себя предложить? Рабочий сцены — совсем даже неплохо! Великолепная возможность присмотреться к актеришкам. Поднявшись по невысокой лестнице, спрашиваю вахтера: «Как пройти в отдел кадров?» После короткого интервью меня берут в штат. Не присмотревшись, без малейшей попытки понять, почему молодой, высокий, крупный человек вместо того, чтобы зарабатывать деньги в бизнесе или охране, просится в театр. Кому придет в голову проверять знания рабочего сцены? Спрашивать его о русском космизме, времени и пространстве? А если поинтересовались бы, с какой целью я напросился к ним в театр, я бы не скрыл свой мотив. Но людское высокомерие не знает границ. Правда, инспектор отдела кадров, лениво перелистывая книжицу «Петел», задала мне пару вопросов: как меня зовут и какой я сексуальной ориентации. Что еще может интересовать человеков? «”Петел” — это что-то о животных, — подумал я. — Видимо, о птицах. Человек разумный десятки тысяч лет изучает их. Браво! Браво! Зачем знать самого себя? Полезнее изучать птиц!» Свой рабочий день я спланировал таким образом, чтобы одновременно оставаться дворником в музее Валентина Серова. Ранним утром я убирал музейный двор и закрепленные за мной улицы, а в десять пятнадцать уже был в театре; в пятнадцать опять подметал территорию, а с восемнадцати выставлял декорации на театральной сцене. И так до вечера. В этот период я практически не мог ничего читать. Я называл его временем экспериментов, наблюдений и выводов. Музей Серова тоже являлся объектом культуры, но там мое рабочее место было на улице. С персоналом музея я никогда не общался. Кроме директора и бухгалтера, практически никого лично не знал. Я продолжал здороваться со всеми экспертами творчества Серова, но дальше дело никогда не заходило. Они меня не интересовали, а я их подавно. Словно не замечая моих поклонов , они всегда проносились мимо. Нечто подобное происходило и в театре. Одна гардеробщица молча кивала головой и едва заметно улыбалась. Коллеги по цеху были мрачные люди. Кроме слов «давай», «пошел», «ставь», «унеси», «подними», в своем лексиконе они ничего не имели. Артисты вообще обходили меня — как, впрочем, и моих коллег — стороной. Как обходят россияне мусорные кучи, дохлых кошек, пойманных в капкан крыс, тему бессмертия. Я жадно, по-научному заинтересованно вбирал в себя атмосферу театра. Я пытался всматриваться в лица актеров, чтобы понять меру их интеллигентности. Насколько она присуща профессии? Но они всегда отвечали надменностью, в которой я, как это ни странно, даже находил свое тайное очарование. Их какая-то генная неприветливость и высокомерие усиливали убеждение, что с ними надо заканчивать. Но однажды произошел инцидент, после которого меня выгнали, не дав доработать месячный испытательный срок. Как-то на репетиции я менял декорации. Мне надо было ухватить высокий, тяжелый секретер и перенести его за сцену. В нем было около двадцати пяти килограммов, но это совершенно меня не смущало. Проблема заключалась в другом: в высоту секретер был около полутора метров. Неся его, я шел на ощупь, так как ничего не мог перед собой видеть. Поэтому переносил секретер осторожно и медленно, как чрезвычайно дорогое изделие. Вдруг я почувствовал легкое столкновение. Тут же остановившись, не видя, кого именно задел секретером, поторопился извиниться и опустил ношу. Передо мной стояла рассвирепевшая актриса. Я понятия не имел о ее имени и звании. Откуда это можно было знать дворнику, приехавшему из Княгинина, в чьей лачуге не было ни телевизора, ни радио? Для меня все человеки были на одно лицо! Но меня смутило другое обстоятельство. Я просидел в детской колонии и лагере для осужденных около семи лет, но такого мата даже там не слышал! Это была не просто ругань взбалмошной женщины — это были слова извращенца, изречения тюремного завсегдатая! Вначале я не мог понять, что, собственно, произошло. Мне даже показалось, что дама обливает грязью кого-то другого. Ведь столкновение с секретером было безобидным, оно не сбило ее с ног, не стало причиной кровоподтеков, синяков! Но достаточно быстро я понял, что она оскорбляет именно меня. Она смотрела своими круглыми глазами мне прямо в лицо, вытягивая длинную шею, а ее язык подпрыгивал в такт сквернословию. Она чихвостила меня с какой-то слепой яростью, в упоении злостью. И как только человек разумный мог сочинить такие гадкие слова? Я стал наслаждаться этой руганью. Сердце замирало от восторга; мне хотелось дробно стучать ногами, кувыркаться в воздухе, прихлопывать и радостно тереть уши. Поведение актрисы подтверждало то, в чем я очень желал быть уверенным. Мне даже хотелось бросить ей: «Пожалуйста, госпожа артистка, продолжайте! Пожалуйста, еще! Еще! Прошу, поддайте жару! Проучите путивльца как следует! Оскорбляйте рабочего, что с ним церемониться! Как шныря пинают в крытых тюрьмах, так и вы продолжайте хлестать меня по физиономии! Ведь в русском языке так много вульгарных выражений. А я пойму отличительные особенности вашего гена высокомерия и распущенности. Мне важны такие сведения: я же в эксперименте». Во время этого короткого конфуза многое для меня стало ясным. «Господи, какая несчастная женщина, — подумал я. — До чего доводят человеков ошибки в генном ансамбле!» На крики взбалмошной актрисы прибежал мой шеф, господин то ли Африкантов, то ли Корифантов. Он отвел меня в сторону и сказал: «Старик, пиши заявление. Это очень влиятельная особа — народная артистка Энтерихова. Я ее сам побаиваюсь: ее муж — высочайшее лицо. А у меня очередь на квартиру подошла. Напишешь заявление об уходе по собственному желанию — я помогу тебе устроиться в Большой театр». Вот такие они , человеки. Глиняный венец на голове! Я написал заявление, попрощался и пошел вон. Мой уже бывший шеф бросил мне вслед: «В Большом спроси Накрякина. Я ему позвоню. Он тебе поможет». — Спасибо!» — обернулся я. Проходя мимо буфета, я купил черный хлеб с сыром, кусочки нарезанного красного яблока, стакан колы, уныло прожевал свой полдник и вышел на улицу. Энергия одиночества переполняла меня, напоминая о главной радости путивльской жизни: свободно размышлять над изгнанием временного биологического вида. Уже через несколько недель я начал служить у нового работодателя и был чрезвычайно доволен тем обстоятельством, что попал в святая святых российского культурного пространства. Конечно, это был чужой мир, но я принимал его спокойно и без внутреннего сопротивления. Большой театр я отождествлял с Государственной библиотекой. У меня возникла иллюзия, что именно здесь я встречу лучших из человеков, подобных тем, чьи книги я требовал в библиотечном фонде. Сказать откровенно, я несколько колебался: а стоит ли мне вообще знакомиться с лучшими из их породы? Вступать с ними в прямой контакт? Или предпочтительнее понаблюдать за ними со стороны? Мне не хотелось думать, что в Большом театре я встречу другую Энтерихову. Ведь в книгах общения с примитивными существами не происходит, в книгах общаешься с мыслителями, интеллектуалами. Тут я усмехнулся: я ведь читаю разных авторов, и вот давеча наткнулся случайно на Виктора Малофеева. Это — приговор всему их биологическому виду. Апофеоз уродства человеков! Тогда я даже застыдился, что оказался в одной эпохе с этим автором. А они спокойно к таким явлениям относятся! Они уже достали меня: чем ниже интеллект их вида, тем громче популярность. Это стало отличительной чертой их времени. Но теперь я больше думал о новой службе. Мне хотелось продолжить эксперимент, чтобы найти оптимальное решение своего генерального вопроса. Рабочих сцены принимали на работу без всяких проблем. В Большом была острая нехватка этого персонала. Кто пойдет работать за семьдесят долларов в месяц? Таскать тяжеленные декорации? Утром и вечером! К этому времени рубль получил самые низкие значения, поэтому в российской столице, да, видимо, и по всей стране, они стали вести счет лишь в долларах. Эксперимент продолжался. Я почти весь день работал: дворником в музее Валентина Серова и рабочим сцены в Большом театре. Когда шел спектакль, я обычно сидел в рабочей галерее на третьем ярусе. Сюда мало кто поднимался. Кроме подвешенных на штанкетках жестких декораций, ничего не было видно. Да я и не хотел наблюдать за сценой. До моего слуха доносились лишь бурные аплодисменты и громкие выкрики «бис», «браво». Единственным, на что я частенько поглядывал, была звонница. Колокола разных размеров, закрепленные на специальных мостиках, были подвешены на фронтальной стене арьерсцены. Самый большой колокол весил около пяти тонн. Я смотрел на него, и мне представлялось, как я в один прекрасный день с помощью этого колокола оповещаю зрителей, всю Москву, весь мир, что началось новое время — эпоха путивльцев! Cosmicus заступил на смену! Радость в душе будет великая… Как-то ко мне поднялся коллега, коренастый мужчина со строгим пробором. Он частенько ходил в рабочем комбинезоне с пестрыми нашивками. Имени его я не знал. «Ты что это все время на галерее околачиваешься? Почему никогда спектакли не смотришь? О чем думку держишь?» Мне не хотелось вступать в разговор. Я посмотрел на него, улыбнулся и сказал что-то совершенно невнятное. Он опять: «Тебе повезло, что ночных смен нет. Бывает, что всю ночь вкалываем. Тяжело! А знаешь, что самое легкое в нашей работе?» — «Нет», — сказал я. «Зарплату получать! Ха-ха-ха! А? Усек?» — «Да! — почти шепотом произнес я, а в голове пронеслось: — О чем мне с ним говорить?» «Слушай, мы завтра с тобой в одной паре. Хочешь деньжат заиметь?» — «Да вроде нет». — «Клиент богатый, деньги хорошие платит. Ты не думай, что он только на бутылку подбросит. Приличные деньги отстегнет. Как, а? Ха-ха! Думаю, по пятнадцать долларов на нос хватанем». Безупречная верность статусу путивльца вынудила меня улыбнуться и заявить: «Хорошо, я вам помогу. Но деньги мне не нужны». — «Как так, не нужны?» — «Живу один, мне хватает». — «Семьдесят долларов в месяц? Ты что, больной? Как такой мизерной суммы может хватить? Ха-ха-ха! Впрочем, отлично. Значит, поможешь?» — а сам про себя, наверное, подумал, что с дураком общается: деньги-то только ему достанутся! «Да». — «Завтра у нас премьера — “Лебединое озеро” Юрия Григорьева. Его друг или спонсор притащит двух лебедей. Ха-ха-ха, конечно, не натуральных! Металлические каркасы в форме лебедей, выложенные хризантемами, астрами и розами. Цветочные корзины и букеты каждый день на спектакли тащат. А полутораметровых лебедей, и в них около двух тысяч цветов, — такого подарка я за двадцать лет работы ни разу не видел! Привезут их на грузовых “Газелях”. С начальством уже договорились. Администрация без магарыча вопросы не решает. А кто у нас не любит левый доход? Ха-ха-ха! Разгрузим “Газели”, через люк втащим цветочных лебедей в арьер, а в конце спектакля выставим на авансцену. Таков весь наш халтурный труд. А в зрительном зале — шквал аплодисментов! В финале великого балета — огромные цветочные лебеди. Красиво! Великолепно! Григорьев семь лет не входил в Большой театр. Интриги Василькова кругами разошлись по всей Москве, больно ранили великого маэстро. Так что завтрашнее событие, рыжий, огромное! Он — уникальный мастер! Хореограф номер один в мире! Как Пеле в футболе, как Льюис в боксе, как Патриарх в религии, как Каспаров в шахматах — так Юрий Григорьев в балетном искусстве. Слышал?» — «Услышал!» — сказал я. «Согласен во славу Григорьева поработать?» — «Я уже дал согласие, — бросил я, а про себя усмехнулся: — О гонораре забыл. Не вспоминает больше. Да, все они такие. Чему тут удивляться!» На следующий день около пяти вечера, за полчаса до начала работы на сцене, пришел я в театр. Прямо с порога налетает на меня вчерашний коллега с четко прорисованным пробором и орет во всю глотку: «Ты что меня подводишь? Пообещал вчера, а сам опаздываешь? Клиенты ждут. Где тебя носит?» — «Вы мне о времени ничего не сказали», — отвечаю я. «А что говорить? Не новичок, сам должен знать, что в Большом замечательный праздник. Все билеты раскуплены. Толпы народа штурмуют вход в театр». «Что я должен знать? — про себя усмехнулся я, глядя на его задиристое лицо с мелкими чертами. — В его физиономии проглядывают черты новорожденного. Это первый признак недоразвитого ума. О чем мне с ним говорить? Я-то с людьми редко общаюсь. А он к тому же лишь выглядит, как homo sapiens; на самом деле его незначительный интеллект роднит его с неандертальцами». Впрочем, мои чувства никогда не выходили из повиновения, я всегда сохранял спокойный, даже несколько безразличный вид. «Пошли быстрее», — потребовал он. Через люк я спустился во двор к водителям «Газелей». Мы выгрузили лебедей и стали втаскивать их на пандус. Через сорок минут премьерные презенты уже стояли за кулисами. Я не обращал на них никакого внимания. Впрочем, безразличие к картинам внешнего мира, к эмоциям моих коллег по цеху, пренебрежение ко всему окружающему я никогда не выказывал открыто. Не то чтобы я чего-то опасался, — просто деликатность cosmicus диктовала линию поведения. Но рабочие сцены и танцоры охали от удовольствия. Они считали эти цветочные фигуры шедевром! Я занялся декорациями. К первой картине, «Вальс», работы было немного: надо было притащить два трона для королевской четы и кресла для свиты, выставить стол, кубки, подсвечники, спустить мягкий задник, установить обшитый фанерой, задрапированный грот. Часы пробили семь вечера, и балет «Лебединое озеро» начался. На время первой картины я был свободен. Чтобы найти убежище для одиночества, я опять поднялся на третью галерею, растянулся на спине и стал слушать музыку гения человеков Чайковского. Я слушал эту замечательную музыку и думал, что она написана не для балета, она создана путивльцем для исхода людей. Эта музыка была как гимн прощания. Именно под ее звуки homo sapiens должны будут навсегда исчезнуть из реального мира. Но тут совершенно другая мысль взбудоражила меня: «Может, они должны исчезнуть всего-навсего из сознания? Просто так, пропасть из моей головы. Улетучиться! Их — нет! Если я не стану о них вспоминать, то они не возникнут в мыслях. Они просто перестанут существовать. Ведь для червей, бабочек и трепангов люди не существуют. А почему для путивльцев должны существовать человеки? Мне не так важно, живы они или нет; главное, чтобы их не было в моем сознании. Чтобы я не видел, не слышал, не ощущал их присутствия!» Потом еще одна мысль, совсем простая, заставила меня усмехнуться: «А если лишиться слуха, зрения и стать немым? Весь космический мир уместится лишь в моем сознании. Я перестану контактировать с их видом, он не будет больше для меня существовать. Ведь я не вижу ультрафиолетовые и гамма-лучи, без микроскопа я не способен разглядеть актиномицеты, бактерии и споры. А почему я должен видеть и чувствовать кроманьонцев? Ломать себе голову над их усовершенствованием, судьбой? Разве мы не можем существовать в параллельных мирах? Я ведь не думаю, как изменить муху? Кстати, а почему бы и нет? Ведь из мухи, моркови, гриба можно сотворить нечто разумное. Может быть, более разумное, чем из людей. Ведь кроманьонца отличает от всех других живых существ лишь пять процентов генов, свинью — четыре, а крысу — всего три. Так из кого же лепить путивльца? Еще не однозначно, что из человеков, вполне возможно, что из крыс или свиней. Или сотворить букет из лучших генов homo sapiens, крысы и свиньи? Вот еще тема для размышлений. Но бог с ними!» В этот момент неожиданная мысль застала меня врасплох: «А что если непримиримость к близко соседствующему биологическому виду — чисто российский феномен? И не русский ли язык как таковой — главный виновник неприятия их существа? Не запретить ли его навечно и повсеместно? Не будет языка — запропастится, исчезнет и сам их мир. Может, и Отечество тут изрядно повинно? Россия с ее непреходящим нравственным хаосом? Но разве я являюсь их соотечественником? Нет, нет, не может быть! Но язык? Здесь есть какая-то тайна! Если я переселюсь, к примеру, в Италию и не стану изучать итальянский, то есть совершенно не захочу понимать местных жителей, почувствую ли я их близость, родство? Приму ли я их разумом? Улетучится ли этот мой беспощадный антагонизм?» Тут я услышал, как заскрежетали механизмы и начал закрываться занавес. Первая картина закончилась. Я сбежал вниз, убрал кресла, стулья, другой мелкий реквизит. Сцена оказалась свободной, поменялась мягкая стенка: на штанкетках спустилось панно — Лебединое озеро. Началась вторая картина — «Лебеди». Тут я опять поторопился подняться с арьерсцены на свою галерку, чтобы продолжить заниматься своим излюбленным делом: полностью отдаться медитации. Мог, наверное, возникнуть вопрос: как Василий Караманов взялся проводить эксперимент в среде человеков без интенсивного общения с ними ? Какая польза от такого вялого исследования? Действительно, к изучению людей я относился по-путивльски. То есть спокойно, без четких планов, задумок и провокаций. Меня интересовало почти все в их быту и поведении, но в то же время как бы и совершенно ничего. Я никогда ничего не записывал, не придерживался какого-то своего графика, не делал снимков, не собирал видеоматериалов. Фокусом моего познания был Я , cosmicus, среди них , homo sapiens, и мои реакции на все людское: как развиты инстинкты, какие гены и каким образом обнаруживают себя агрессивно, а какие атрофированы, чего не хватает человекам, а чего в избытке. Едва я устроился на своем месте, как ко мне поднялся мой коллега со строгим пробором. Характерным движением головы он как бы убрал со лба волосы, которых не было. В руках он держал бутылку водки «Гжелка» и пополам разрезанный лимон. «Васька, давай выпьем. — Его незнакомый, какой-то посторонний голос вызвал у меня уныние. — Ты уже не один день работаешь, а мы еще ни разу не выпивали. Не по-людски! Давай вот, начинай. Ты помог мне сегодня, я тебе, как благородный человек, от души ставлю. А после спектакля выставлю еще аж целых две бутылки. Как, Василек, это по-нашему? Чтобы не обижался, что вот помог Мандрыкину, а он один распивает. Кроме того, скажу тебе честно, после мрачных картин Мансаладзе меня всегда тянет выпить. А ты как переносишь этого художника?» Чтобы не было долгих пустых дискуссий, я не стал признаваться ему, что непьющий. Я никогда не пробовал этой гадости, не желая искусственно возбуждать свой ум и чувства. Что до художника спектакля, то я о нем ничего не знал и он меня совершенно не интересовал. Алкоголь? Почему он имеет такую неимоверную силу над ними ? Это признак человеческой глупости и слабости или их всеобщая генетическая тяга к нему? Если тут виновна генетика, то вопрос можно уже сегодня легко снять. Всего несколько манипуляций… Тут я вспомнил, что мне необходимо смыться от непрошеного гостя, быстро бросил господину Мандрыкину: «Прошу прощения, меня остро потянуло в туалет», — и, не дожидаясь его ответа, сбежал по лестнице на пандус. «Спрячусь до антракта в туалете, — подумал я. — Напьется коллега и, надеюсь, забудет о желании совместного времяпрепровождения. Обижать его, конечно, не в моих правилах». Я прошел мимо прожекторной, юркнул за механизмы сцены, спустился в туалет и закрылся в кабинке. Стенки театрального туалета, расписанные ручками и карандашами, с пошлыми подписями и бесстыдными рисунками, выглядели недопустимо позорно для венцов природы! Но тут снова в голову стали приходить совсем другие мысли. Я считаю себя родоначальником cosmicus. В этом есть своя правда, но, к сожалению, лишь отчасти. Потому что в истории кроманьонцев встречались личности, действительно несшие в себе некоторые признаки путивльцев. Одним из первых был Коперник. Именно он проложил дорогу к современной астрономии, способствовал решительному изменению отношения к космосу. Он первый доказал, что Земля — не центр мира, а одна из самых незначительных планет, песчинка в нескончаемом космосе. Таким образом, представление о центральной роли самих человеков оказалось несостоятельным. Липой! Заблуждением! Обманом! Он первый указал им на временность их пребывания на планете. Да и религия помешала им встать на путь генной инженерии, открыть в каждом невероятные возможности разума. Самим додуматься совершенствовать себя не технически, а биологически. Теперь я, Караманов, приверженец абсолютного разума, основательно займусь этим. Я прорву «прагматический смысл» жизни homo sapiens, искореню в их генном ансамбле сосредоточенность на частном, несущественном. Необходимо оторвать человека от всего человеческого и предложить новым существам соотносить себя с космосом. «Ой, какой красивый букет, какой замечательный художник, какая великолепная архитектура, элегантный костюм, автомобиль, какая женщина!» — этих эмоций не должно быть в путивльцах. Это все в самое ближайшее время должно стать людским анахронизмом. Cosmicus будет ценить совершенно другие предметы и явления: «Какая замечательная, законченная система физической причинности; какой мощный разум, он начинает свою работу с простого перемещения в пространстве, а заканчивает глобальным размышлением с МР планетой; какая привлекательная атомистическая картина AP галактики!» Тут служебный звонок прервал мои размышления, и я понесся на авансцену. В балете «Лебединое озеро» два акта, четыре картины, один перерыв. Декорация третьей картины практически повторяет первую, а четвертой — вторую. Я опять понес трон, потом второй. Кто-то выставил стол, кресла, кто-то — небольшой грот. Опустилась мягкая стенка. Сцена была готова. Я остановился у звонницы, чтобы дождаться начала второго акта и опять спрятаться в туалете. Слева, за вторым занавесом, стояли цветочные лебеди. Может, они выглядели действительно великолепно; вполне возможно, что они вызывали у человеков восторг, — но я о них не думал. Я потерял из виду Мандрыкина, но, опасаясь встретить его и нарваться на бесплодную дискуссию об алкоголе, торопился спуститься вниз. Скорее бы открылся занавес и начался второй акт! Меня нисколько не смущало то обстоятельство, что все свое свободное время я старался проводить в одиночестве, чтобы предаваться бесконечным играм разума. Они увлекали меня! Я существовал только этим! Человеки могли подумать, что я жил в мире галлюцинаций, но это было не так. Я постоянно размышлял о будущих поколениях, которым судьба дарила возможность обживать просторы Вселенной. И бесстрастная мудрость путивльца была спутницей моих медитаций: они не могут знать колоссальную разницу между изжившим себя их умом и неистовым интеллектом cosmicus. Я черпаю знания не ложкой, как обезжиренный томатный суп, а пригоршнями, которыми кроманьонцы захватывают найденное золото. Вот в чем… Прозвучал третий звонок, и я тут же юркнул на свое насиженное место. Добросовестно устроившись на толчке, я опять принялся размышлять. Простой смертный лишен возможности заглядывать за пределы сознания. На сей раз я задумался о том, отчего это характерной особенностью гениальных человеков ученые считают чрезмерное наличие в их организмах мочевой кислоты. «Порочная людская последовательность, — тут же мелькнуло у меня в голове, — в туалете размышлять о мочевой кислоте. Они бы рассмеялись! Я — продолжу!» Впрочем, я не придал этому неожиданному импульсу никакого существенного значения; поток разума лился дальше: «Гениев отличает не объем мозга, не особый генный ансамбль, не какая-то сверхсекретная субстанция, а обычная мочевая кислота — OC-HN-CO-C–C-N-HN-CO-NH-C. Но если она так замечательно действует на людей, то было бы совсем неплохо найти формулу, способную с эмбрионального периода увеличить ее содержание в организме. Тогда мир заселят одни коперники, ньютоны, чайковские и шопенгауэры… Но как они жить-то будут? Эйнштейн — это вершина, а кого у подножья расселить? Кто станет обслуживать этот пик человеческого интеллекта? Ни один человеческий разум не сможет быть активным без сопутствующей комплексной инфраструктуры. Это нам , путивльцам, она не требуется. Каждый из нас сам по себе! А им ? Они без стрелочников, поваров, слесарей, конструкторов, одевальщиков никак не смогут! Гений не раскроется, его плод останется к осени не созревшим. Да и основные идеи гения понимает лишь незначительное количество талантов; они транслируют их способным, которых больше, чем их, а те, в свою очередь, комментируют их адекватным, которых еще больше. Но на этом связь заканчивается. До адекватного доходит лишь один процент мыслей гения; до способных — десять-пятнадцать; до талантливых — сорок. Но все остальное достояние пропадает! Пылится на полках книгохранилищ, плесневеет в фолиантах, протухает в архивах! Но я знал и еще более страшные цифры. Если измерить интеллект человеков в неких условных единицах, то Ньютон и Эйнштейн имели бы, скажем, сто сорок единиц; Достоевский и Гегель — сто тридцать; Планк, Вернадский, Чайковский — сто пятнадцать; Чижевский и Фарадей — сто десять; Валентин Серов и Лобачевский — сто; Мансуров и Гавве — девяносто; Намыкин и Торес — восемьдесят; Иванов, Петров, Сидоров — семьдесят. Но у путивльцев же — тысяча! Пять тысяч! Вот какая сумасшедшая разница! Какое же будущее может ожидать человеков? Его просто быть не может! Еще и потому, что homo sapiens делятся по параметрам интеллекта на обособленные группы. Первая часть — от семидесяти и выше, то есть от Иванова, Петрова, Сидорова до Ньютона. Вторая — от Иванова, Петрова, Сидорова до дебила. В пропорциональном отношении это пятьдесят на пятьдесят. Выходит, что пятьдесят процентов человеков являются существами, чей интеллект ниже семидесяти единиц. А это более трех миллиардов кроманьонцев! Если эту цифру взять за сто процентов, то окажется, что она делится на три сегмента: от нуля до двадцати пяти единиц — тридцать процентов; от двадцати пяти до пятидесяти — тридцать процентов; от пятидесяти до семидесяти — сорок процентов. Первая группа — это люди, чей словарный запас состоит из ста слов, — таких около пятисот миллионов. Всего лишь сто слов! Ни слова больше! Это ли разум, способный стать хозяином Вселенной?! Вторая группа — это существа, владеющие одной тысячей слов; их тоже около полумиллиарда. Из этой породы могут выйти только люди моей профессии: уборщики, грузчики, проводники вагонов, охранники тюрем, мелкие милиционеры. Третья группа — люди, у которых в пользовании уже около трех тысяч слов. Они могут служить продавцами, водителями, радио— и теледикторами, строительными и заводскими рабочими, попсовыми шоуменами. Кто же из них может претендовать на титул “Венец природы?” Разве возможно эффективно использовать их скромный разум с точки зрения программы путивльцев — переселения земного интеллекта в просторы космоса? Но тогда куда деть эту бессмысленную публику?» Тут мне в голову пришла такая мысль: ведь паспорт человеков — это апофеоз архаичности и наивности их сознания. Сами усугубляют проблему: на пороге двадцать первого века — такой примитивный документ! Имя, отчество, фамилия, год рождения, прописка! Бесславный, позорный прием — идентифицировать, осчастливить их всех новыми российскими паспортами. Разве сегодня так нужно различать между собой кроманьонцев? Какое убожество! Неужели интеллектуала или путивльца такие данные о Льве Толстом или о Циолковском могут интересовать? Я предвижу возражение: паспортные данные — пища не для разума! Они для специальных служб! Вот она, дремучая людская несостоятельность. Перефразируя одного из известных человеков, я сказал бы так: «Дайте мне ваши генетические данные, и я скажу, кто вы есть!» В паспорте необходимо указывать именно генетику: это совершенно не повторяющиеся показатели, более точные, чем отпечатки пальцев! Я вспомнил примеры: митохондриальная супероксиддисмутаза (SOD2), глутатионпероксидаза (GPX1), параоксоназа (PON1) или АроЕ, липопротеинлипаза (LPL), эндотелин (ЕDN1) или ангиотензиноген (AGT) и так далее. Именно так должен выглядеть паспорт путивльца. Смотришь в него — и узнаешь о cosmicus все: что он за тип, каковы его специфика, увлечения, возможности, есть ли склонности к ненормальным поступкам. Главное, никогда ни с кем не спутаешь. При поступлении в институт, приеме на работу, участии в дискуссиях: предъявил свои генетические данные — и получил или нет ожидаемое место. Поэтому паспорт нужен не эмвэдэвский, а генетический. Как они не понимают, что для некоторых генотипов алкогольное опьянение должно служить смягчающим фактором, а не наоборот! Они на генетическом уровне — а он куда сильнее и глубже, чем социальные и правовые нормы, — не могут управлять собой под воздействием алкоголя. Нельзя же наказывать станок, который из-за отсутствия необходимого напряжения сбавил обороты и загубил деталь! Нельзя поносить автомобиль за то, что в самый неподходящий момент он остановился, потому что заклинило мотор. Так же и насильника невозможно исправить тюрьмой. Генная инженерия должна помочь ему в утробе матери, чтобы исключить дальнейшее правовое преследование. Человеков необходимо приучить не к послушанию закону, а к постоянному генетическому сопровождению. Смешно, что такие простые вещи они не понимают. О ни даже не раздумывают над этим! Так конфликт между цивилизацией и природой с каждым днем обостряется, набирает силу и очерчивает перспективу: дальнейшее пребывание человеков на Земле противоречит развитию материи. Ни больше ни меньше! А направь финансовые и интеллектуальные ресурсы на исследование этих проблем — какая армия служащих прокуратуры, органов внутренних дел, судов, адвокатуры была бы из-за своей бесполезности выброшена на улицу! Зачем иметь милицию, если человек смоделирован так, что у него нет и не может быть потребности совершать правонарушения? Но в результате естественных мутаций он сотворен иначе. Необходимо изменить его ! Если бы такое произошло, сколько офисов карательных органов освободилось бы! Сколько бюджетных денег было бы сохранено в кассе государства! Какие материальные ресурсы они смогли бы потратить на совершенствование своего вида! Но у них для этого недостаточно разума. Из всех шести с половиной миллиардов человеков найдется не более пятидесяти тысяч таких, кто способен включиться в эту программу! Это меньше 0,0001 процента от всей популяции. Чрезвычайно мало! Ну, совсем ничего! Они сами, без моего участия, никогда эту проблему не решат! Или взять медиков. Врачей у путивльцев не будет, а на время переходного периода можно оставить лишь хирургов, акушеров и генетиков-терапевтов… В этот момент раздался служебный звонок, и я тут же прервал разговор с самим собой, выскочил из безлюдного туалета и понесся на сцену. Закончилась третья картина. Необходимо было переставлять декорации. Четвертая картина спектакля была завершающей. В кулисах собирался балетный и театральный бомонд: женщины в шелковых и бархатных декольтированных платьях, обвешанные бриллиантами, важные мужчины в смокингах с бабочками, с подведенными тушью глазами. А за кулисами толпилась менее значимая публика. Я никого не знал, но в глаза бросался их зависимый вид. Они нервно поглядывали на людей, стоявших в кулисах; кто-то поднимал руку, почтительно приветствуя высокопоставленного знакомого, другой кланялся или посылал воздушные поцелуи, прячась за портьерами. Но почти все с восторгом глазели на цветочных лебедей. Красота и свежесть хризантем, окутывающее их таинственное белое сияние привлекали всеобщее внимание. Ревнивые глаза большинства блестели от зависти. Казалось, публику, собравшуюся в кулисах, больше интересовала интрига необыкновенного подарка, чем сама премьера Григорьева, чем музыка Чайковского, чем драматургия танца. Последняя, четвертая, картина спектакля — самая короткая, около двадцати пяти минут. Рабочим запрещалось отходить от арьерсцены. Поэтому и я, и мои коллеги по цеху жались к механизмам и стенкам служебной части огромного помещения. Нас окружали корзины и букеты цветов, к которым были приколоты записки: «Для Цискаридзе — от Нелли Доманской», «Для Волочковой — от Марика Лолуа», «Для Уварова — от Зифы Басыровой», «Для Медведева — от Нины Молчановой», «Для блистательной Бессмертновой — от Михаила Мельяна», — и так далее. Только на лебедях никаких визиток не было. Это обстоятельство придавало интриге особый колорит. История Большого театра еще не знала столь шикарного подарка. Каждый, кто принес корзину или букет, был унижен невероятной щедростью анонимного конкурента. Рядом со мной какая-то дама говорила своим собеседникам: «Я знаю этого типа. С помощью столь нескромного подарка он хочет устроить свою любовницу в труппу театра». Мужчина поблизости предложил иную версию: «Григорьев продавил в правительстве одному бизнесмену проект нефтепровода под Черным морем. Этот презент — знак благодарности». Пятеро тусовщиков, перебивая друг друга, высказывали скандальные предположения: «Это он сам себе заказал! Ха-ха-ха! Меня не проведешь!» — «Этих лебедей клуб геев преподнес». — «Каких геев, у него же масса любовниц!» — «Говорят, это от Душкова, точнее, не от него самого, а от одного из его спонсоров, который сделал подарок балетмейстеру по указанию мэра». — «Это не лебединый букет, это лебединый венок! Видите, какие у них красные глаза? Глаза у лебедей красными не бывают». И уж совсем пошлое: «Цветы несвежие, видно, с кладбища. Я знаю такие трюки». Я уставился в потолок, чтобы не встречаться взглядом с представителями бомонда. Порочный ген людской зависти расцветал прямо на глазах. Ни один из человеков не говорил о спектакле, о работе балетмейстера. Я ничего не понимал в искусстве, но неплохо разбирался в генной мозаике людской породы. Вот что меня интересовало. Эти существа готовы были съесть друг друга, сжевать все цветы вместе с лебедями, вырвать лавры у автора балета, съесть и его самого. Одни проделали бы это из зависти, другие — из чувства неуправляемого восторга. Разве мог я принять их мир, их культуру, их генный ансамбль? Может, поэтому они так эфемерно и кратко живут? Несчастные! Природа сама избавляется от них. Они ей уже не нужны. Ресурс, который полностью исчерпал себя, не востребован! Ведь действительно, что такое шестьдесят-семьдесят лет? Щелчок пальцев! Я постарался выключить свой мозг и стал терпеливо дожидаться конца спектакля. Наконец, раздался гул аплодисментов, вопли восторга, топот ботинок, свист галерки! Это продолжалось несколько минут. Восторг был неописуемый! Скажу откровенно, у меня в голове пронеслась мысль, что они обрадовались сообщению о собственной генетической переделке. Но я тут же отмел ее и стал ждать: в мои обязанности входило убрать декорации и выставить на сцену лебедей, корзины и букеты цветов. Но едва занавес закрылся, вбежал какой-то крупный администратор и закричал: «Лебедей назад, на пандус! В люк! Чтобы я их на сцене не видел. Чтобы никто их не видел! Быстро! Караманов, Мандрыкин, слышали? Мигом!» Весь бомонд, собравшийся в кулисах и за ними, от удивления открыл рты: как так? Что такое? Кто-то крикнул: «Господин Листовкин, в чем дело? Такие замечательные лебеди! Пусть выставят их на сцену. Они ведь для Григорьева!» Слышалось и другое: «Балет — не театр одного актера! Почему одному лебедей, другим букеты, а третьим кукиш?» — «Меня интересует, кто прислал этих цветочных лебедей. Он хотел поиздеваться над нами? Олигарх оскорбляет артистов! Ломай цветочное диво!» Тут опять послышался требовательный голос господина Листовкина: «Быстрее! Распоряжение дирекции: лебедей — в люк. Если они нужны балетмейстеру, пусть тащит их домой! Сцена Большого театра — не конкурс флористов! Быстрее, мы должны снова открывать занавес!» Григорьев отвернулся, чтобы не наблюдать за этой унизительной возней. Одни требовали убрать лебедей, другие — оставить! Какой-то господин среднего возраста, с седой короткой стрижкой и в смокинге, подбежал к Листовкину и стал буквально навязывать пачку долларов. Но менеджер театра закрывал руками голову, выдавая свою полнейшую растерянность. «Нет, нет, нет, — твердил он, — дирекция запретила. Ой, ой, меня снимут с работы!» — «Дайте разрешение выставить лебедей на сцену. Ну, на пять минут. Всего на пять минут! Хорошо, на три минуты! Потом, пожалуйста, закрывайте занавес», — настаивал незнакомец просящим голосом. «Нет, нет, нет, — повторял растерянный администратор театра. — Эй, Караманов, Мандрыкин, вынесите лебедей к люку. Я прошу, я требую! Ой, господи!» — «Возьмите пять тысяч долларов и дайте разрешение, чтобы бегущая строка над сценой немедленно запустила текст: “Приветствуем возвращение в Большой театр Юрия Григорьева!” Это же вы можете сделать? За пять тысяч долларов. Десять тысяч долларов предлагаю вам за вынос на сцену лебедей! Своим упрямством вы сводите меня с ума! Я даю живые деньги! Григорьев на сцене. Здесь нет никакой политики! Это только уважение к великому балетмейстеру! Вы же не сумасшедший! Что творится с Россией!» — «Нет, нет, нет! Ищите директора! Эти вопросы наверху решаются!» — завизжал Листовкин. Подскочив к дорогостоящему презенту, он цепко ухватился за него и с каким-то отчаяньем прокричал: «Караманов, Мандрыкин, помогайте! Взялись! Толкаем к пандусу! — И вдруг, минутку спустя, заявил: — Хватит! Мне пора на сцену! Я тоже имею отношение к спектаклю!» Часть стоящей в кулисах публики бросилась на цветочных птиц, начала вырывать из них хризантемы и розы. Но их корешки оказались короткими, и, разочаровавшись, народ бросал цветы прямо на арьерсцену. Пока мы с Мандрыкиным оттаскивали лебедей к люку, от них остался лишь сваренный из металлических прутьев пустой каркас. Грустное зрелище! Ощипанные лебеди выглядели убого. Они были похожи на брошенные останки их цивилизации. Но на них уже никто не обращал внимания. Занавес открылся. Вся труппа балета и руководство театра вышли на поклон. Овации продолжались минут пятнадцать. Корзины и букеты цветов стояли у ног солистов. Они раскланивались и улыбались! Рабочий день заканчивался. Я подумал, что этим же вечером надо оставить навсегда высокое заведение культуры. Эксперимент в Большом театре по поиску материала для моделирования путивльца закончился полным провалом. Впрочем, я нисколько не досадовал на произошедшее этим вечером в самом центре Москвы. Никаких иллюзий у меня не было, и я ожидал такого человеческого финала. Подобное поведение кроманьонцев стало для меня уже давно привычным и обыденным. Желая глубже погрузиться в одиночество, я молча оставил театр и побрел в Староваганьковский переулок, к себе в лачугу. Было тихо и безоблачно. Московский ветер нагонял запахи заканчивающегося дня, а огни фонарей словно указывали дорогу к моему убогому жилищу. Новые мысли одолевали меня: «Когда человеки смотрят в ночное звездное небо, им становится жутко от размаха необъятного разума. Но я, всматриваясь в бесконечность мерцающих звезд, чувствую в сознании великую гармонию. Этот огромный космический мир превосходно умещается в моей голове…» Чем больше я читал, тем меньше хотелось мне общаться с окружающим миром. Одоевский, Умов, Соловьев, Бердяев, Флоренский — все они обогащали мой разум самым невероятным образом. Но обращал я внимание не только на русских предвестников путивльцев; ничуть не меньше увлекали мое воображение зарубежные авторы: Терасаки, Робинс, Ангели, Борн. Я поглощал книги этих и других авторов с усердным постоянством. Продолжая работать дворником в музее Серова, я все свое свободное время просиживал в библиотеке, занимаясь генетикой и философией, чтобы в один прекрасный день закричать миру: «Начали!» О, как я ждал этого дня! Быстрее бы! Я чувствовал, что волею судьбы Василий Караманов оказался между двумя эпохами, что именно ему поручено закончить историю землян — устаревшую, беспомощную, которая лишь криком пытается обратить на себя внимание, — и начать новую эру — эру существ многомерного разума. В последнее время к своему сараю я стал относиться особенно трепетно: как христиане к церкви, как иудеи к синагоге, как мусульмане к мечети. Это ветхое жилище стало для меня храмом, в котором я по ночам обдумывал переустройство мира, — не только ближнего, но всего универсума. Во время этих ночных бдений какие только феерические картины ни лезли в голову, ни радовали сознание! И их всегда венчало одно полотно, выполненное компьютерной графикой: Василий Караманов разрезает красную ленточку, и cosmicus спокойно, с чувством собственного достоинства входят в совершенно новый, вечный мир познания. Вот и сейчас я лежал на своем тюфяке, укрывшись допотопным пледом, и продолжал размышлять, — на этот раз о физиологических возможностях путивльцев. Человек созрел в мутациях, но в гармоничных условиях. Последние несколько десятков миллионов лет температура планеты была спокойной. Поэтому он , землянин, от рамапитека до кроманьонца — а это более пятнадцати миллионов лет — развивался в условиях приблизительно одного и того же климата. Результат плачевный: он не в состоянии пережить температуры выше или ниже уравненного значения. Первая проблема, которую необходимо решить: с помощью генных манипуляций сотворить универсальный ансамбль, позволяющий путивльцам переносить температуры значительно ниже и выше тех, с которыми приходится встречаться на Земле. Это позволит им более свободно перемещаться в космосе и проживать на других планетах. Помимо этого, надо решить вопрос с дыханием. Тут генная инженерия должна помочь смоделировать легкие cosmicus таким образом, чтобы они выполняли те же функции, что и верблюжий горб, — с той лишь разницей, что горб накапливает влагу, а новые легкие путивльца будут сохранять кислород и отдавать его по одному выдоху в день, в месяц, в год, в десять лет. Нечто подобное необходимо проделать с желудком. Сейчас для поддержания температуры тела организм использует метод расщепления пищи, добывая таким образом необходимые калории. Нужно перестроить организм путивльца так, чтобы его температура поддерживалась с помощью внешних и внутренних батарей. Внутренние аккумуляторы будут работать бесперебойно: во-первых, за счет движений и сокращений клеток тела, во-вторых, за счет солнечных и гамма-лучей и скорости движения любого аппарата, на котором будет находиться путивлец; внешние — за счет специального рукотворного излучения, по типу мобильной связи. Уже пора приступить к проекту передачи энергии на расстояние. Решение этих главных вопросов снимет с повестки дня тему обязательного сна. Человеки тратят на него более тридцати процентов своего времени. Средняя продолжительность жизни россиянина — шестьдесят три года, европейца — семьдесят девять. Россиянин спит более двадцати лет, европеец — около тридцати. Cosmicus должен спать не больше десяти процентов суточного времени в начале проведения исследования, и этот показатель необходимо довести до трех-четырех процентов. Это означает, что на сон он будет расходовать никак не больше одного часа в день. Это пятнадцать суток в год, или три года за восемьдесят лет! Тогда он станет более продуктивен, но прежде всего — гораздо более экономичен: есть будет пять — десять раз в году! Главная проблема заключается в том, что содержание одного человека обходится чрезвычайно дорого. Здравоохранение (приведу усредненный мировой показатель): один год — тысяча долларов. Сюда входит весь комплекс: строительство больниц, закупка оборудования, лечение, медикаменты, реабилитация. Шесть с половиной миллиардов умножаем на тысячу долларов — получается шесть с половиной триллионов долларов. Питание: на одного человека в год расходуется две тысячи долларов, умножаем опять-таки на шесть с половиной миллиардов жителей Земли — получаем тринадцать триллионов долларов. Отопление квартир, офисов, транспорта — тут усредненный мировой показатель следующий: один человек тратит двести пятьдесят долларов в год. Итого — полтора триллиона в год. Затраты на теплую одежду усредненно: двести долларов на одно лицо — одна целая и три десятых триллиона в год. Расходы на содержание тюрем, заключенных, администрации, на их униформу и амуницию охраны в местах заключения — один триллион долларов в год. Бюджеты министерств внутренних дел всех стран мира — пятнадцать триллионов долларов, вооруженных сил — еще шестьдесят триллионов долларов. Сокращение бюрократического аппарата на семьдесят процентов даст экономию в тридцать пять триллионов долларов. Итого мы получим сумму, превышающую сто тридцать триллионов долларов! Это более сорока бюджетов США, в пятьсот раз больше бюджета России! Человек нерентабелен, он полный банкрот! Поэтому-то и х экономисты никак не могут предложить план финансового оздоровления России. И в этих условиях никогда не предложат. Нет шансов! Не с того начинают! Человека надо менять, его делать рентабельным! Весь секрет в этом! Как можно добиться рентабельности нации, если каждый ее член в своей массе абсолютно нерентабелен? Мой путивлец станет высокорентабельным существом! При условии, что его популяция сохранится на отметке шесть с половиной миллиардов, он получит из бюджета на каждого по двенадцать тысяч долларов в год. Сейчас каждый россиянин, работая, получает в среднем не больше восьмисот долларов в год. А тут — двенадцать тысяч!.. Тут мне в голову пришел известный афоризм русского философа Николая Федорова: «Наше тело — будет нашим делом». Как Владимир Мономах рассылал своих сыновей, внуков, племянников осваивать необъятные просторы восточных земель, так Василий Караманов откроет путивльцам дорогу в безбрежный космос. Осваивайте его! Покоряйте! Совершенствуйте себя! Как Киевская Русь стала гнездышком, где выращивались молодцы для Великой России, так и Земля станет питомником для путивльцев, которые покорят Вселенную. Человеки содрогнулись бы от таких, на их взгляд, вздорных мыслей, но я наращивал обороты работы мозга, вызывая в сознании все новые картинки будущего устройства генной архитектуры cosmicus. Если люди томились от скуки, находили себя не в играх разума, а в его тени, в стихии порока, то меня буквально распирало от энергии созидания. Я постоянно размышлял над вещами, о которых никто никогда не задумывался. Мое сознание было всегда полно чистейшими, артезианскими мыслями, гейзерующими из глубин космоса. Тут в моих ушах зазвучала музыка Чайковского из «Лебединого озера», гимн прощания с человеками. Я вспомнил Большой театр, остов цветочных лебедей и тот апофеоз зависти и злобы, что случилось мне наблюдать. Может, они все же не все такие? И лишь в Большом собралась завистливая публика? Что, если попробовать в другом известном театре? Например, у Нелюбова, на Яузе. Авторитетный московский театральный коллектив. Там-то такого не позволят, хотелось надеяться мне, там будет совершенно иначе!.. Через несколько дней я нашел мастерскую, в которой заказал проволочный каркас полутораметрового винного бокала, потом принес эту конструкцию в цветочный магазин с просьбой одеть ее в цветы: основание и ножку убрать белыми хризантемами, а сам бокал — красными розами. Помимо собственных дворницких денег, у меня еще оставались «кукольные». Я узнал, что в театре на Яузе 12 декабря идет спектакль по Борису Пастернаку — «Доктор Живаго», заехал в театр, свободно купил билет и спросил у кассирши: «Скажите, пожалуйста, кто у вас в коллективе самый известный, самый выдающийся артист?» — «Который занят в “Докторе Живаго”?» — уточнила она. «Да, именно!» — «Владимир Серебрюхин! Мы его все очень любим. Он играет самого Живаго. Вам он понравится». — «Серебрюхин? Владимир?» — «Да, да!» — «Спасибо! — Я поклонился и тут же подошел к вахтеру: — Будьте любезны, скажите, как пройти на сцену?» — «На сцену? Туда никого не пускают. В чем дело?» — «У меня билет на вечерний спектакль. Я в первый раз выбрался в ваш театр. Хочу передать господину Серебрюхину цветы». — «Букет или корзину?» — «Это несколько больше, чем корзина». — «Обращайтесь к администратору. Вот, пройдите в его кабинет». Разговор с менеджером театра был кратким. Не желая вникать в подробности, он запросил за разрешение выставить на сцене цветы десять долларов. Я заплатил и спросил: «Кому отдать цветы?» — «Отнесите на служебный вход. Передайте Потапочкину. Он заведует этим хозяйством». — «Будет ли он знать, что вы разрешили?» — «Да-да, я позвоню». — «Я подъеду к трем часам». — «Нет, лучше в половине шестого. Вечерняя смена к этому времени уже вся на месте». На этом мы попрощались. Я нанял «Газель» и ровно в половине шестого был у служебного входа. Мой винный бокал из цветов произвел фурор. Такого они не видели. Ситуация у служебного входа театра на Яузе напоминала ту, что случилась в Большом театре. Артисты и рабочие сцены смотрели на мой презент и спрашивали друг друга: «Кому этот роскошный подарок? Кто заслужил этот шедевр?» Один из них с чувством восхищения присвистнул: «Ничего себе букетик!» Тут ко мне подошел господин Потапочкин и на ухо шепнул: «За такой богатый подарок с тебя двадцать долларов! Обещаю после спектакля лично организовать эффектное вручение твоего презента Серебрюхину прямо на сцене, перед всей публикой. Как, а?» Мы полюбовно расстались, я направился в театр и занял свое место в девятом ряду. С трудом высидел спектакль. Наконец, когда он закончился, я оживился и стал смотреть на сцену внимательнее. Корзину цветов вручили седому полноватому человеку. Он не был актером. Я подумал, что это и есть Нелюбов, главный в театре на Яузе. Один жиденький букетик преподнесли артисту, игравшему заглавную роль, — видимо, это и был Серебрюхин; второй — какой-то даме. Я не следил за пьесой, поэтому не мог определить ее роль. Других цветов не было. Привыкший смотреть на человеков как на пройденный этап эволюции, как на материал, нуждающийся в срочном основательном ремонте и обновлении, я нисколько не удивился, что бокал из цветов не был выставлен. Я тут же усек, что «цветочное внимание», как и все другие знаки поощрения, оказывается в их жизни исключительно по ранжиру. Начальнику — больше и оригинальнее. Артистам — дозированно и скромнее! «О, как я прав, — мелькнуло у меня в голове. — Как в воду глядел: в путивльце ничего не должно быть от этих человеков культуры. Ноль!» Они не вынесли роскошный бокал из цветов. Опять зависть? Злоба? Именно так! А может, все-таки подождать с выводами? Упал бокал, цветы помялись, мыши объели хризантемы… Но вот все закончилось. Выхожу в фойе. Даю доллар рабочему с просьбой подозвать ко мне Потапочкина. Он появляется, смущенный. «В чем дело?» — спрашиваю. «Я тут ни при чем! Нелюбов, его жена. Когда она увидела твой презент, спросила: “Кому?” Я говорю: “Владимиру Серебрюхину!” — “Георгий, как ты позволяешь? Тебе корзинку, а ему такой замечательный подарок! Это же вызов! Что будешь делать?” — “На сцену не выставлять! Слышал?” — это Нелюбов сказал, — развел руками Потапочкин. — Куда тут денешься…» — «Но я же деньги заплатил, ты обещал», — напоминаю я. «Что обещал? Я носился с твоим бокалом туда-сюда, гнев шефа на себя накликал. Прощай! Больше с такими презентами не приходи». Опять повторилась чисто человеческая история. Сколько еще экспериментировать?! Нет, они должны покинуть этот мир. И Листовкин, и Пантюхов, и Подобед, и Семихатова, и Потапочкин должны быть в первых рядах исхода. Я про себя усмехнулся и медленно направился вон из театра. У гардероба ко мне подбежал артист Владимир Серебрюхин: «Не обижайтесь. В следующий раз принесите корзинку цветов или букет. Что поделаешь? Нам чего-нибудь попроще!» — смущенно улыбнулся он. Мы молча простились. Но тут меня стало мучить одно несколько смешное опасение: «А что если сейчас явится сам Нелюбов и, извинившись, сошлется на проделки своей жены?» Усмехнувшись, я покинул театр. «Нет, никогда в будущем я не окажусь в таком заведении». В этот момент я задумался: а если бы с самого раннего детства я рос в богатстве, в полноценной семье, окруженный вниманием нянь и прислуги, — опутивлилось бы мое сознание или я остался бы обычным представителем рода человеческого? Горькая мысль, внезапно вошедшая в сознание, на некоторое время вызвала к собственной персоне холодную неприязнь. «Василий, перестань мучиться, — тут же сказал я себе. — Раз и навсегда пойми: фактор нищеты и презрения к тебе окружающих мог стать лишь незначительным, едва уловимым толчком к изменению генного ансамбля. Ты родился cosmicus. И все человеческое изначально чуждо твоей натуре». После этих размышлений, видимо, опасаясь за стройность линии жизни, я решил еще дальше уйти от людей и всецело и самозабвенно погрузиться в одиночество. Кроме грез о новейшей эпохе бескрайнего разума, мне ничего не было нужно. К себе в лачугу я решил идти пешком. Спуститься к Яузе, пройти к Солянке, подняться по проезду Серова до «Детского мира», дойти по Охотному ряду до Воздвиженки. Я все больше убеждался, что биологический вид человеков — простая мутационная остановка. Мне на ум пришел маршрут Автобуса- Vita по пути развития приматов: Олдувай (Кения) — Хадар (Эфиопия) — Турканский берег (Марокко) — Коцетанг (Китай) — Неандерталь (Германия) — гора Кармель (Иудея) — Кро-Маньон (Франция) — Путивль. По мере продвижения Автобуса- Vita усложнялся вид высаживаемых пассажиров. Правда, думал я, по дороге совершенно случайно, без малейшей логики выпадали из него некоторые предпутивльцы. Например, совсем недавно, 17 декабря 1770 года, в Бонне из автобуса выпал Людвиг ван Бетховен; 11 декабря 1821 года в Москве выкарабкался из него Федор Достоевский; 15 октября 1844 года в Роккене у Лютцена выпрыгнул из него Фридрих Ницше; 27 сентября 1849 года в Рязани выбрался из него Иван Павлов; 14 марта 1879 года в Ульме на Дунае вывалился Альберт Эйнштейн; а 5 января 197… года в Путивле Автобус- Vita , наконец, остановился. Из него вышел Василий Караманов. Я оказался в Путивле, чтобы изменить этот мир. Но природа делала свое дело не торопясь. Каждому виду она придавала свои особенности и характерные признаки. Какой порок был у австралопитека? Понимал ли он вообще, что такое порок? Может, он лучше понимал добродетель? Скорее всего, его добродетель заключалась в том, чтобы сдерживать собственную агрессию. В чем же еще? Но если в словарном запасе всего сто звуков, какая тут может быть добродетель! А Читать дальше
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать