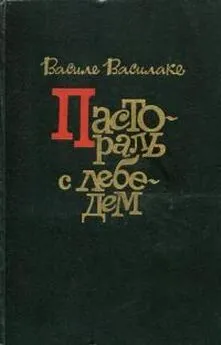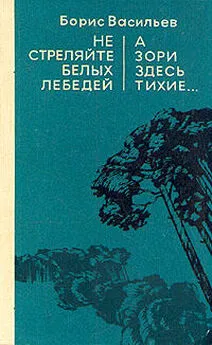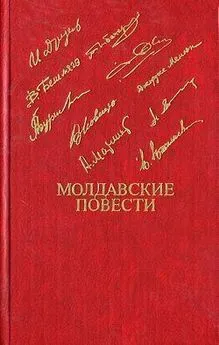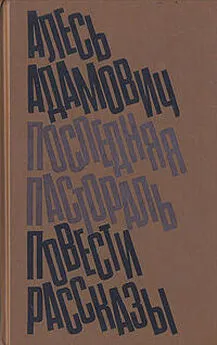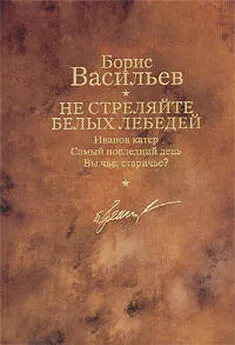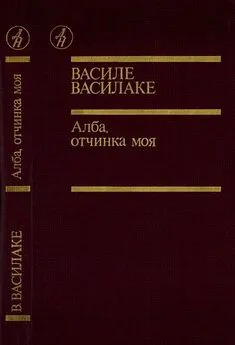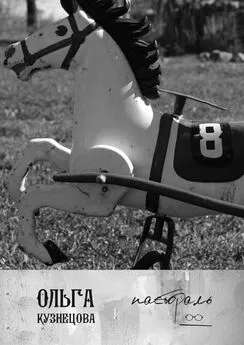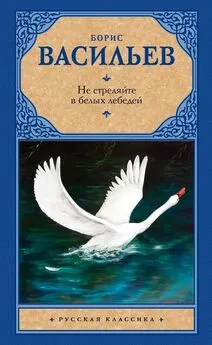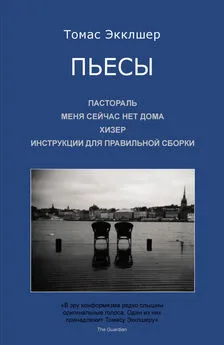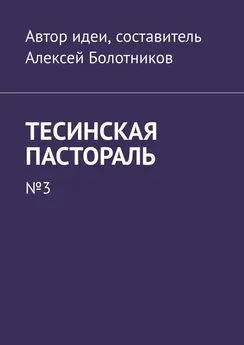Василе Василаке - Пастораль с лебедем
- Название:Пастораль с лебедем
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-280-00587-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василе Василаке - Пастораль с лебедем краткое содержание
Пастораль с лебедем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Белый бычок» вроде определился, прояснился немного. А что же это за «серый пудель»? Так, собака, хоть и нарядная, с локонами, «как на секретарше районного Дома быта». Однако, как это и всегда у Василаке, не случайно будет вертеться этот пудель. В этой второй части романа мы застанем Ангела уже не пастухом (он успел это ремесло еще в первой части оставить), а почтальоном, хранителем музея старого быта и «градобойщиком», разгоняющим тучи ракетами, тайным врагом заготовителя Синькина, который разъезжает на лошади, а Ангел, как ни бьется, как ни демонстрирует свою грамотность, свое крепкое передовое мировоззрение, а у него даже мотоцикла казенного нет. Эта сжигающая мечта о казенном мотоцикле приведет, наконец, Ангела к преступлению.
Народ хоть и посмеивается над Ангелом, как посмеивался над Серафимом, но смех этот невеселый, потому что не очень смешны признания Ангела: «Что за власть у пастуха? Над жвачными, не более. И я поставил перед собой цель. Вот ОНА, цель… — и ткнул в свою двухпудовую обшарпанную почтальонскую сумку… — Думал: станешь ты, Ангел, почтальоном — ах, какая жизнь тебя ждет! Разве сравнить, товарищи, деревенского пастуха с государственным служащим?.. Вот она, моя скала!.. И достигнув заветной цели, я крикнул тем, что остались внизу: «Не забудьте меня!» А они взяли да забыли».
Веселый это, вроде, парень, Ангел — задорный, смекалистый, красноречивый. Мы готовы и простить ему издержки его задора и готовы понять юную красавицу Деспину, которая влюблена в этого неприкаянного соискателя высоких мест, не замечая, как неотвратимо стареет в ожидании этого жаркого бегуна за первенством. Не зря мыкается по деревне брошенный заезжим безумцем из бывших односельчан пудель и тянет везде, что может, даже вот и горлицу, на которой гадает о своем суженом несчастная Деспина.
Собака к концу будет так настойчиво врываться на страницы, что мы скоро поймем ненапрасность этого вторжения и неожиданно разглядим, что Ангел — это и есть пудель — приживал, эгоист, завистник, честолюбец, крашеная дворняга, ухватившая горлицу Деспину за крыло. Скала, на которую он лез так настойчиво, неизбежно привела его изъеденную душу к тому, что он убил Синькина (и кажется, не в одном своем воображении) — веселого заготовителя, свою удачливую тень, свою народно-праздничную противоположность.
Мне самому тяжело смотреть, как безжалостно спрямляю я смыслы этого тонкого умного романа. На деле тут все скрытно, неуловимо, часто почти утаено за ерничеством, непринужденностью, болтливостью, той лукавой крестьянской насмешливостью над собой и своим селением, которыми испокон веку славны разного рода врали, бахари, а за ними и писатели, живущие в своем народе как верные, благодарные дети. Так писал своего «Кола Брюньона» Р. Роллан, так в больной час жизни видел своих не теряющих мудрости мужиков А. Платонов, так из наших современников пишут своих «односельчан» Нодар Думбадзе и Грант Матевосян, Римантас Шавялис и Айвар Калве, так смеется и мотает на ус родную сельскую мудрость в своих «бухтинах» Василий Белов.
Вместе со своими лирическими героями сидят они тут же на завалинке посреди своего села, и ничто от них не укроется, и оттого, что это их родной, родовой, веками существующий мир, то и малые их дела и заботы обретают черты эпоса, хотя бы ни заботы этих людей, ни даже имена их не были известны уже просто соседнему селу. Казалось бы, что и нам-то до них! А вот поди ж ты — все это и нам скоро становится родным и важным, заставляет кивать и поддакивать.
И какой непростой все оказывается у Василаке народ! Какие все у него мудрецы, пройдохи, политики! Все большие мастера рассказать сказку, притчу, отделаться обиняком, укрыться за метафорой. Один все время с шапкой разговаривает и лысину всем свою показывает, а зачем — не говорит, пока сам не догадаешься: дескать, смотри, какой я дурак! — выучил детей, «чтобы им легче и умнее было прожить отпущенные годы, а они… живут по-цыгански, на чужбине, под чужим небом и крышами». Другой, смиренно признаваясь, что он «неграмотный», толкует своим детям «скрытые смыслы и умыслы, дабы дети учились прежде у своего родителя и потом своим умом доходили, чего стоит каждый учитель от Лао Цзы до Платона и Будды». А третий и вовсе в отвлеченности пустится: «Да уж как ни крути, а есть что-то такое на свете… Что-то есть однако… Но как назовешь? А я скажу — это что-то зовут ничего! Сколько ни вьется перед глазами, а мы ничего не видим. Сосед мой покойный, Филемон Негата, тоже, бывало, скукожится вдруг, ни с того, ни с сего перекрестится и охнет: «Ничевонька, — говорит, — пробежал».
И все они страстно ждут, чтобы «хоть бы какой умник растолковал попросту, что за устройство у этого мира». А пока этого «умника» нет, они сами пытаются разобраться, что тут к чему, и прежде всего из книги в книгу они думают у Василаке о том, как примирить этих неразлучных сестер — Жизнь и Смерть, — и все они добиваются у Провидения: если ты создал меня для жизни, почему посылаешь мне Смерть? И слышат в разных повестях один странный ответ: «Спроси у своих детей…»
Может, поэтому герои так часто, из книги в книгу поминают Хроноса, но, как Серафим, не делают из Времени страшилища, а находят ему, как всему в своем крестьянском обиходе, верное место и зовут его чаще запанибрата, как домового, — Хроней. Хронос у них не только хоронящий, но и хранящий — бог умный, по-мужичьи хозяйственный, назидательный, и сопровождает он героев с родственным же постоянством — с младенчества до конца. А чтобы герои, да и мы с ними, чувствовали его присутствие острее, Василаке включает Время в постоянные и деятельные герои, особенно настойчиво сталкивая свадьбы и смерти, словно эти события изначально нерасторжимы, словно сестры Жизнь и Смерть в этих актах теснее и ближе всматриваются в человека. Так было во многих его прежних книгах, так продолжает биться эта синкретическая мысль в романе «Пастораль с лебедем».
Здесь особенно видно, что Василаке всматривается в Смерть не для метафизических упражнений, не для пессимистического кокетства, а все для той же Жизни, для нормального и здорового ее развития, как в общем всегда и рассматривается смерть в народе. Так она всегда была естественной в череде крестьянских работ — тем последним поступком, который особенно освещал жизнь человека и давал повод другим вернее оценить свое понимание правды и дела жизни.
Вот умер в селе беспокойный человек Георге Кручяну, и пора уж его похоронить, а село все никак не сделает этого, словно покойник не хочет оставлять землю, пока не выяснена его судьба среди людей. В это-то время и затеяли соседи сговор, чтобы поженить двоих молодых людей, потому что сейчас не успеешь поженить, а потом уж и слухов по селу не оберешься — невеста-то уж, кажется, тяжелая. А сговор-то поневоле закрутился вокруг покойного Кручяну. Упрямый жених должен был доискаться правды, как будто от этого зависела его судьба и свадьба. Да и родственники тоже словно поневоле съезжали на судьбу покойного, и все разматывалась, разматывалась нить его жизни, и понятным становилось беспокойство односельчан.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: