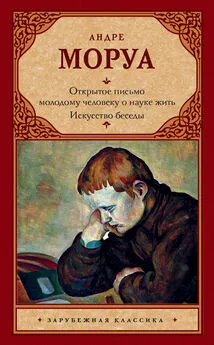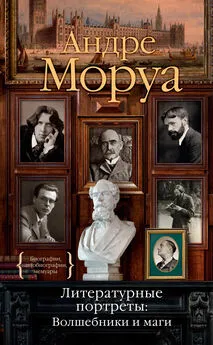Андре Моруа - Литературные портреты: Искусство предвидеть будущее
- Название:Литературные портреты: Искусство предвидеть будущее
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Аттикус
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-20255-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андре Моруа - Литературные портреты: Искусство предвидеть будущее краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Литературные портреты: Искусство предвидеть будущее - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В Орлеане Пеги застал кусочек старой Франции, он познакомился здесь с трудовым народом старой Франции – веселым, поющим народом. «В прежние времена стройплощадка была тем местом на земле, где люди счастливы, в наше время стройплощадка – то место на земле, где люди ругаются, отвечая обвинениями на обвинения противника, злятся друг на друга, дерутся и убивают друг друга». В те времена необычайно высоким было представление о трудовой чести. «Мы знали ту же рабочую честь, какая вела за собой руку и сердце в Средние века… Нам была знакома гордость отлично выполненной работой – законченной, тщательно отделанной, отвечавшей самым строгим требованиям. Все свое детство я видел, как плетут стулья – с тем же воодушевлением, с тем же усердием и с той же сноровкой, с какими тот же самый народ обтесывал камни, возводя соборы».
Пеги гордился – и весьма обоснованно гордился – тонкостью, умением соблюдать приличия, высокой культурой того народа, из которого он вышел…
Скромность, и честь, и смерть, как гравер,
Писали свою историю среди садов.
Позже мне довелось услышать почти те же слова от Эжена Даби, сына и внука рабочих. «Мой дедушка, – рассказывал Даби, – читал Виктора Гюго, Мишле, Кине [102] Даби Эжен (1898–1936) – писатель, участник Первой мировой войны. Мишле Жюль (1798–1874) – историк. Кине Эдгар (1803–1875) – политический деятель, писатель, историк литературы и историк.
. А что читают рабочие сегодня, да и кто из нас хотя бы пытается в наше время писать книги, которые они могли бы и должны были бы читать?» Пеги страдал, видя, как социализм, в который он так верил, вырождается и превращается в библию отказа от труда. «Заметьте, ведь в глубине души ни один из рабочих не радуется тому, что можно ничего не делать, все они предпочли бы трудиться. Не зря же они принадлежат к этому трудолюбивому племени, они слышат зов своего племени… и в глубине души они себя ненавидят, когда крушат свои орудия производства. Но важные господа, ученые, представители буржуазии объясняют им, что это и есть социализм, что это и есть революция».
Его социализм был социализмом французским, социализмом Прудона, а никак не «догматическим, злобным социализмом Карла Маркса», который Шарль считал социализмом для важных господ, для буржуа с университетскими дипломами. «Будучи отроду человеком из народа, – говорил Пеги, – я особенно ненавижу тех, кто навязывает народу такой социализм». Ему были противны «демократичные, но строгие» пиджаки, в которые рядились видные социологи из Сорбонны. Он мог дружить с представителями буржуазии, почти все его друзья были выходцами из буржуазии, но в душе он не принимал, не понимал и не выносил буржуа – даже радикальных, даже объявляющих себя социалистами. Шарль мог уважать своих друзей и даже любить их, не переставая относиться к ним с подозрением, порой враждебно и даже агрессивно – с агрессивностью «плебея, переходящего в другой класс». Факт, что у Шарля Пеги, как и у многих французов, есть что-то от Жюльена Сореля.
Своих друзей из буржуазной среды он в благопристойной форме, но неприязненно и несправедливо упрекал в том, что они родились буржуа, – как будто они были в этом виноваты! «Не будем закрывать на это глаза, Галеви, мы принадлежим к разным классам, и вы должны со мной согласиться: в современном мире, где деньги решают все, это самая существенная разница, самая далекая дистанция, которая только может разделять людей. Как бы неприятно это вам ни было, как бы вы ни старались, сколько бы ни отгораживались от этого одеждой, бородой и тоном, что бы ни было у вас на уме и на сердце, как бы вы ни отрекались от этого, – все-таки вы родились в одной из самых знатных, самых древних, самых аристократических семей. И поскольку мы с вами уже договорились, что не льстим друг другу, добавлю, что вышли вы из высшего дворянства, разделяющего старые добрые традиции либеральной республиканской орлеанистской буржуазии. Традиции французской либеральной буржуазии».
Разумеется, в том, чтобы следовать старым республиканским и либеральным буржуазным традициям, нет ничего постыдного, совсем наоборот: и законы вежливости вполне позволяют напомнить другу, что он принадлежит к семье, которая соблюдает эти традиции. Но в самом стиле напоминания у Пеги сквозило что-то неприязненное, в самом его тоне звучала ощутимая горечь – надменное и воинственное смирение, стон раненого самолюбия, исцелить которое можно лишь уверенностью в том, что, когда дело доходит до латыни, греческого, философии и «всех остальных учебных дисциплин», он, Пеги, не уступает друзьям, а может, и превосходит их.
Он учился в Эколь Нормаль и знал наизусть все великие французские стихи, он обладал таким чувством языка и так владел словом, как может только человек, изучивший латынь, он тонко понимал крупнейших философов и относился к Декарту точно так же, как к Жанне д’Арк, – будто они его близкие знакомые, – и это было для него великим счастьем – счастьем законным, принадлежавшим ему по праву. Нет прозаика – кроме, разве что Монтеня и Рабле, – который так испещрял бы свои сочинения цитатами. Возможно, причины тут одни и те же, потому что Монтень и Рабле принадлежали эпохе, заново открывшей латынь и греческий и восхищенной своим открытием. Должно быть, нечто подобное случилось и с талантливым мальчиком Шарлем Пеги, когда он перешел из коммунальной школы в лицей.
Однако в сочинениях Пеги цитаты из Виктора Гюго и Корнеля встречаются даже чаще, чем латинские и греческие изречения. Этому отбросившему всякие условности книжнику очень нравилось подробно комментировать чужие тексты и отсылать к ним цитатами. Если речь заходит о Ватерлоо, он сразу же видит «равнину-усыпальницу», а при слове «бугор» тут же вспоминает: «…это довольно высокий бугор, существующий еще и теперь; за ним, в ложбине, расположилась гвардия» [103] Гюго писал в романе «Отверженные»: «Для Франции вся эта равнина – усыпальница».
. При слове «завтра» он с трудом может удержаться от восклицания: «О! Завтра – это нечто великое!» – и не процитировать затем всю строфу целиком [104] Речь о строфе из стихотворения Гюго «Наполеон II» 1835 г., начинающейся словами «О! Завтра – это нечто великое! / Из чего оно сотворено?..».
. Он цитирует даже песни, в особенности военные: «А вот генерал – весь в прошлом, весь разбитый, согнутый, кривоногий и одетый как пугало…» В этой страсти к цитатам, склонности к погружению в общеизвестный текст, свойственной всем французам, есть своя прекрасная сторона. Она объединяет нас всех в любви и в восхищении одним и тем же. Она питает наши мысли и украшает наши прогулки.
«Счастливы те, – говорил Пеги, – счастливы те двое друзей, которые так любят друг друга, так хотят нравиться друг другу, так знают друг друга, так согласны друг с другом во всем, так похожи друг на друга, настолько одинаково думают и чувствуют, настолько вместе внутренне, даже когда жизнь их разлучает, и настолько остаются самими собой, когда они рядом, чтобы (суметь) радоваться молчанию вместе…» Этот выходец из Эколь Нормаль оставался человеком земли, крестьянином. Он любил тексты, но терпеть не мог педантов, он любил уточнения, вводные слова, правильно поставленные запятые, но терпеть не мог каталожных карточек. Этот вид эрудиции, занесенный из иностранных университетов, его ужасал. Ни один человек на свете так не любил и не знал историю Франции, как любил и знал ее он. Но он не считал, что история – это только документы. На самом деле самые прекрасные исторические книги – Фукидида, Тацита – были написаны людьми, которые не пользовались архивами и не заводили картотек.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
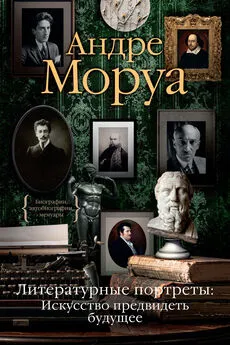





![Коллектив авторов - Происхождение Вселенной. Как с помощью теории относительности Эйнштейна можно проникнуть в прошлое, понять настоящее и предвидеть будущее Вселенной [litres]](/books/1082599/kollektiv-avtorov-proishozhdenie-vselennoj-kak-s-p.webp)