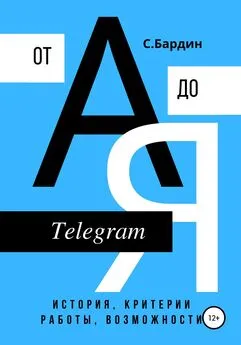Сергей Бардин - Рассказы тридцатилетних
- Название:Рассказы тридцатилетних
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-235-00221-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Бардин - Рассказы тридцатилетних краткое содержание
Рассказы тридцатилетних - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Старик держит у носа ее трубочку с кислородом, потом просто руку, когда Люба отключает кислород и забирает трубочку. На руке нет третьего пальца, наверно, думаю я, старик воевал, а теперь в том месте, где должен быть палец, видно, как тускнеет кожа на щеке его старухи. «Мы будем держаться, мы выдержим, все будет хорошо и у тебя, и у меня, ведь так уже было, и ты возвращалась, и мы жили».
«Нет, старик. Не будет! В том-то и дело — нет. Ты пойдешь один по снегу. Ты сядешь в кухне, ты упрешься глазами в темноту».
Он сидит у меня в ординаторской. Он курит. Зубы то и дело скрипят, и впервые мне не кажется, что это для других. Я даю воды. Он берет, он плещет воду на пол, он ставит стакан на стол. Третья уже сигарета.
— Пойду к ней.
— Знаете… Она закрыта простыней.
Он смотрит на меня.
— Ничего… Откроем.
Через два часа мы понесем ее в морг. По белому снегу, по холодному. Небо будет плоское, в звездах, похожих на дырочки, я разгляжу Орион и Большую Медведицу и в первый раз за тридцать пять лет почувствую: «Не страшно».
Шагов за сорок до морга нам встретились мужик с бабой, идущие навстречу. Мужик обернулся, огонек папиросы дрогнул в его руке, но выправился. Дальше они пошли не оглядываясь.
На другой день было вскрытие. Дыркин немного шутил про свою санитарку, осуществлявшую запой. Два дня назад его снова выбрали в местком. Чтобы помочь вместо санитарки, я надел перчатку и взял крючок. Заведующий прямо тут, над телом усопшей, заявил протест: смерть должна быть отнесена на счет терапевтов (мы ведь тоже боролись за звание). Валентина Степановна категорически возразила. За нее вступился главный. «Мы не можем нарушать порядок, — сказал он. — Этого нам никто не позволит сделать». Заведующий обиделся и замолчал.
Расхождения диагноза на сей раз не оказалось.
По дороге из морга Валентина Степановна снова ругалась с завом, я шел сзади, и меня тошнило от них обоих и от всех нас, живых.
Возлюби ближнего своего как себя. Пройди, проживи смерть его как свою, и, может быть, ты обретешь бесстрашие, и забудешь ложь, и станешь свободным.
Возлюби.
Я знал: шапкой не вычерпаешь все. Будет так и будет по-другому. Но для себя у меня было два выхода: подойти ближе или отойти совсем.
Поясню. Подойди ближе — соумереть с каждым, кого хоронишь. Для этого я не годился. Я слишком любил себя. За всю жизнь мне попался всего один такой. В сорок лет он был почти на финише.
Второй путь — отойти совсем. Сберечься, надеясь на что-то пока неясное и нерешенное. Его я выбрал.
А третий (для чего и пишу) — путь большинства моих коллег — остаться снаружи, привыкнуть или (что еще хуже) — не понимать, этот путь был мне теперь ясен и потому закрыт.
Я подал заявление. Шло последнее мое дежурство.
В приемный покой меня не звали, я ходил по ординаторской, курил и листал старые журналы. Все было просто.
А под утро вызвали в роддом. На дворе снег. Заносит протоптанные тропинки. Рожает женщина вторые сутки.
Знакомая врачиха давит на живот, санитарки прижимают к подставкам ноги, а акушерка (ее я тоже знаю) вылущивает прорезающуюся головку. Роды.
Я смотрю на женщину (меня попросили побыть), она совсем молоденькая, девочка лет восемнадцати, волосы растрепались из-под косынки. Кто тебя просил, глупая? Разве нас мало? Разве жить — такая уж роскошь? Разве мы уже знаем зачем?
А женщина, ее зовут Галия, поет. «На белых стволах… появляется сок…»
Схватки через две минуты. На высоте их появляется коричневый затылок в нежных слипшихся волосках, чуть больше с каждым разом. Все тужатся вместе с Галией, а она — уже не хочет. Она то лежит не двигаясь, молча, будто мертвая, то встрепенется, санитарки налягут животами, а она прыснет и опять громко, заливисто: «Ах, мамочка, на саночках!» Или вдруг тихо: «Отпустите меня, зачем вы меня держите?»
Но — сначала затылок, потом мятый сине-розовый лоб, потные бровки и (акушерка делает неуловимое движение) обмылком из руки — весь. Синий маленький ребенок.
Кладут в таз с розовой марганцевой водой, проводят ладонью по лицу. И он чихает, закрыв узкие глазки. Кричит. Еще. Неохотно (надо, вот и кричу), каким-то кларнетным голосом. И солидно, серьезно молчит.
Ну!
Во мне уже сдвинулось, и я боюсь: вдруг это исчезнет.
Я жду.
Выдавливают послед.
Галия поет. Она ничего не заметила.
А он, знающий,водит голубоватыми ручками, и на плечах его растут волоски.
Я шел домой. Я улыбался, и было хорошо. «Ничего, — шептал я, — ничего, Галия. Пусть. Еще не все!» В моей догадавшейся душе бродило новое вино.
Римлянин
Я знаю, после смерти душа моя возродится, и мы снова окажемся рядом. Ведь в жизни, которую мы жили не здесь, мы уже любили друг друга. Я помню…
Дом, с террасы которого я смотрю на Рим, в Велабре, старом квартале на берегу Тибра. Здесь малолюдно и тихо, хотя это центр Рима. Мне виден золотой дворец Нерона рядом с серым, заросшим пятнами зелени склоном Тарпейской скалы, и платановая роща, которая ночью, если пройдет дождь, темнеет и блестит, как мокрые женские волосы.
Если следовать Эпикуру, наверное, я уже достиг высшего блаженства. Во всяком случае боли в теле и волнения в душе я не чувствую и, кажется, не буду испытывать никогда.
Ночами Юлла выносит меня на террасу, надо мной загорается созвездие Козерога, и с Тибра дует Фавоний [7] Западный ветер.
и доносит запах листьев и вздыхающей весенней земли. И я снова живу мою жизнь, мне грезятся руки Юнии, ветер шевелит ими мои волосы, я вспоминаю и расстаюсь… Да, да, отцы сенаторы! Надо поднять факелы. Смеркается. Идет к закату моя жизнь. Мне тридцать один год, на два меньше, чем Александру в день его кончины, но, кажется, больше в мою жизнь вы не втолкнули бы уже ничего.
Я умираю. Каждую ночь я бросаю веревку с крючком в начале утра, в первый час рассвета. Я хватаюсь за нее рукой. Я ползу туда, в жизнь… мою жизнь — такую несбывшуюся и невозвратимо прекрасную.
Я родился в Риме, но мое детство, сознательные годы, прошло в Кумах — маленьком городке на побережье Кампаньи. Мне минуло девять лет, когда от родов умерла моя мать и родилась сестра Виргиния. За неделю до этого события отец дезертировал из римской армии, где служил в чине легата, не выдержав позора Британского похода Калигулы. Нас выслали из Рима. С тех пор и до смерти отец служил простым писцом в Кумском магистрате.
Я плохо помню детство, может быть, потому, что слишком помню его. Кумы были прибежищем для многих, подобных нам, — единственное слабое утешение той жизни. Мы были дети изгоя. Нас ненавидели поощряемой бесплатной ненавистью, на которую так падки плебеи и несчастные.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: