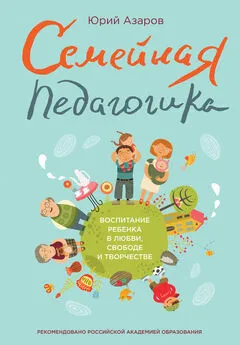Юрий Азаров - Печора
- Название:Печора
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Азаров - Печора краткое содержание
Роман-газета, 1990 г., № 3–4 (1129–1130). 1954 год. Общество накануне больших перемен. После смерти Сталина и Берии началась реабилитация политических заключенных. Но, оказывается, что отречься от сталинизма легко лишь на словах. Практически же очень непросто, ибо, как поясняет автор, "он в наших душах, в способах чувствования, общения… Мы пригвождены к дорогам, уводящим нас от храмов. Пытаясь сорвать свое тело с крестов, мы оставляем на гвоздях окровавленные лоскуты своих душ — а это боль адская!"
Печора - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Потом на вершину поднялись дети: Света, Алла, Саша, Валерий. Так же, как и я, повисли на палках, опустив руки. И первое, что дошло до моего сознания, — их дыхание — тонкий запах парного молока, смешанного с запахом фиалки. И к этому запаху примешивался еще и тот, знакомый только мне, удивительный аромат — все, что осталось мне от моей живой и неповторимой любви. Слезы навернулись на глаза. Я боялся посмотреть на детей. Мне вдруг показалось, что я, стоит поднять глаза, увижу ее, увижу на этой солнечно-морозной высоте.
А потом в одно мгновение моя тревожность схлынула.
— Смотрите же, смотрите! — кричала Света Шафранова. — Солнце катится.
Мы не сговаривались. Они услышали меня. И солнце будто катилось по снеговой парче. Я взглянул на детей. Их лица смеялись. Неслышно. И одежды, припорошенные снегом, и румянец на щеках, и радостные глаза — все говорило о новом состоянии, что-то бесконечно чистое объединило нас. Мы замерли. На-верное, от общей причастности к Красоте.
Я интуитивно понял тогда, что человеку нужны мгновения, когда вот так щедро в его может и должна войти Красота.
Родившаяся однажды радужная ослеплённость спасала от многого: она отгородила от суетных претензий, от всего, что мешало покойному развитию счастья. Пусть это звучит нелепо, но это единение с детьми и природой меня приблизило к ней. И чем больше я приближался, тем более по-иному относился и к себе самому, и к жизни, и к детям. Я увидел их другими. Я стал искать в них какое-то сходство со всем прекрасным, что непременно жило в её глазах в её изяществе. Я стал учиться любить детей.
Я много лет спустя только понял, что моя ослепленная любовь к детям была разновидностью болезненной любви к самому себе. Впервые, об этом мне сказал Рубинский. Сказал насмешливо, после того как я возмутился его авторитарными методами общения с детьми. Впрочем, я и сейчас не могу понять, были ли его методы авторитарными или же это тоже был какой-то болезненный, загиб. Я развивал тогда идею самоуправления. Мне казалось, что я с детьми достигаю высших форм человеческого единения, высшей справедливости, правды и доверия. Я говорил ученикам:
— Завтра три восьмых класса пишут сочинение. Ни в одном из классов не будет учителя, и никто из ребят не посмеет списать у товарища или же воспользоваться записями, учебником или шпаргалкой.
Я верил детям, как самому себе. Я знал: будет в классах абсолютный порядок. А через два часа мне принесут в учительскую три стопки сочинений, и я доложу детям, что за эти два часа подготовил для них удивительный рассказ о нравственных поисках Толстого и Чехова. Я давал им понять, что моя функция как учителя не в том, чтобы следить за ними, мелко и унизительно допрашивать, выискивать недостатки, расставлять капканы, а в том, чтобы утверждать высшие формы нравственности, для утверждения которых я хотел непременно найти и технологические решения. Если, скажем, Валерий Чернов назначался ответственным за проведение всего дня, то он и должен. был обеспечить порядок на контрольной в своем классе. И я верил ему и говорил об этом и детям, и учителям. И в ответ мне посмеивались и некоторые из ребят, и некоторые из учителей.
— У меня несколько иной метод, — тихо произносил Рубинский, как бы обращаясь к Екатерине Ивановне, И та раскатисто смеялась: — Ну уж и метод…
Новшество Рубинского было таким. Он поставил на стол свой учительский стул, забрался на этот трон и два часа просидел на нем, пока не прозвенел звонок. Странно, когдая увидел Рубинского, сидящего на своем возвышении, я возмутился, а он как ни в чем не бывало слез с возвышения, и его обступили со всех сторон дети: и Валера Чернов, и Света Шафранова, и Юля Шарова, и все другие дети, и никто из них не был возмущен, напротив, все обращались к нему с почтением, и он улыбался, отвечал на вопросы, и была меж ними такая особая доверительная доброжелательность, что я тихонько закрыл двери и удалился.
Однажды я разговорился со Светой Шафрановой. Как-то очень осторожно коснулся Рубинского. Она сказала:
— А он не злой. Смешно, когда он разыгрывает диктатора.
Я продолжал развивать самостоятельности детей, а Рубинский посмеивался надо мной. Помню, я уже добился того, что дети сами находили работу, сами организовывали труд, получали деньги, оформляли сберегательные книжки, покупали необходимый инвентарь для предстоящего похода, уже каждый из ребят побывал и в командной, и в подчиненной роли (принцип сменяемости руководства был для меня одним из главных), а Рубинский все равно посмеивался.
— Это игра, — говорил он. — Никому не нужная игра.
— То, что это игра, — это прекрасно, — отвечал, я ему. — Без игры не может быть детской жизни. И не беда, что ты этого не понимаешь. Страшное в другом. Ты знаешь, какой вред могут принести авторитарные методы, которые насаждаются в школе, и ты же не принимаешь детское самоуправление.
— Не принимаю. Нельзя ставить у власти таких детей, как Чернов или Юра Савков.
— Почему нельзя?
— Потому что они безнравственны.
— От природы, что ли?
— От безнравственного воспитания, — А кого можно?
— Никого.
— А тебя? — язвил я.
— Вот тебя уж точно нельзя, — отвечал он.
— Почему же?
— Потому что ты озабочен только своими притязаниями. Ты наслаждаешься самим собой в общении с детьми…
Я ничего тогда не смог ответить ему. Я действительно наслаждался самим собой. Мне доставляло огромную радость то, что я всецело посвящал себя детям, что они мне дороже всего, а те идеи, какие я пытаюсь с ними утверждать в этой жизни, волновали человечество на протяжении многих веков. Так почему же я не должен наслаждаться своим трудом, своим общением, своими догадками? Я ненавидел Рубинского и все же в чем-то ощущал его правоту. Ощущал, хотя и не принимал ее. Конфликт возник у меня с Рубинским в колхозе. Я руководил тремя восьмыми, а он тремя девятыми классами. И здесь я развивал со своим отрядом самоуправление, а он — авторитарность: за все отвечал сам, сам наказывал и поощрял, раздавал инвентарь и принимал работу. Все это у меня совершали ответственные, и я радовался тому, как они разрешали возникающие противоречия.
Но однажды случилась беда. Мои восьмиклассники во главе с Савковым и Черновым оказались ночью на кладбище (у них с девчонками было какое-то пари), они выдернули несколько крестов и направились в деревню, назвав свое шествие восьмым крестовым походом. В ходе расследования этого чрезвычайного происшествия выяснилось, что Чернов с крестом в руках ночью постучал в один из домов, старуха выглянула в окно и, увидев крест, говорят, упала в обморок, а Чернов хохотал так, что упал на землю, лег на спину и задрал кверху ноги: так ему было весело.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
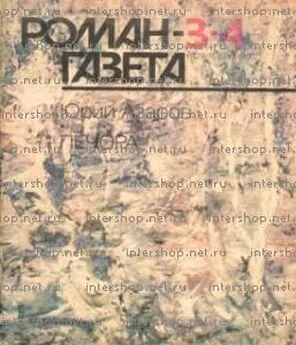

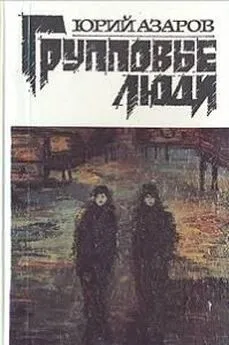
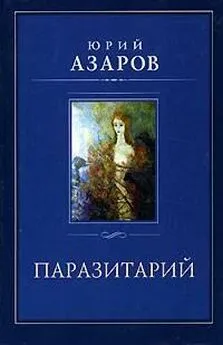
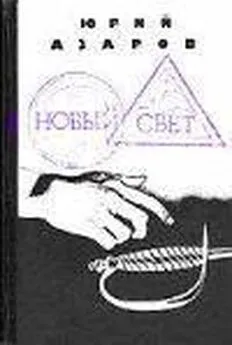
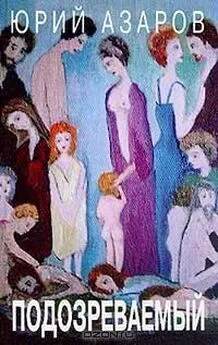
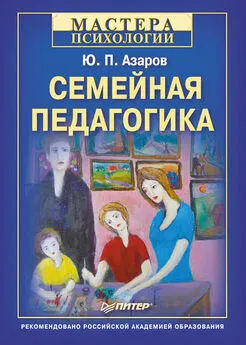
![Евгений Синтезов - Судьба Еросы из «Клана Печора» [SelfPub, 16+]](/books/1086718/evgenij-sintezov-sudba-erosy-iz-klana-pechora-s.webp)