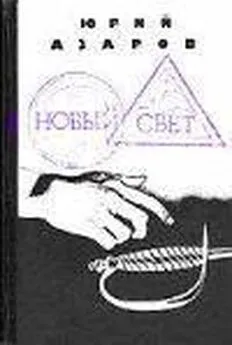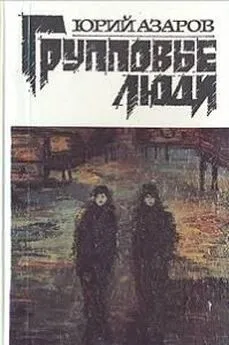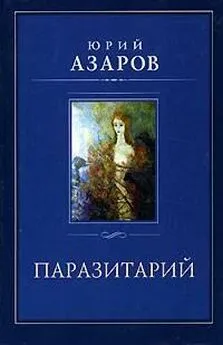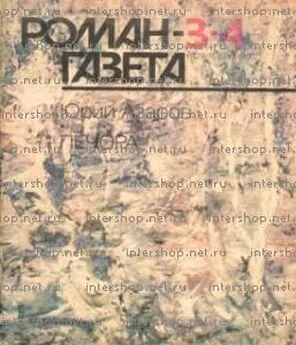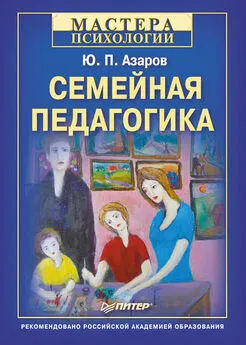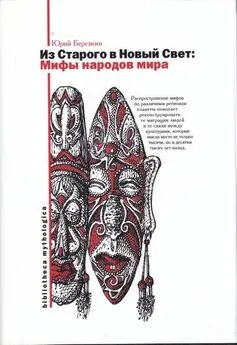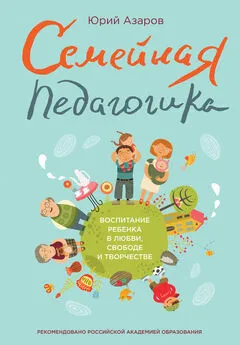Юрий Азаров - Новый свет
- Название:Новый свет
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Азаров - Новый свет краткое содержание
Мое сознание раздваивалось с активной торопливостью. С одной стороны, было все же стыдновато облачаться в одежды новоявленного лжепророка, а с другой — так хотелось предстать в роли глашатая новой веры, чтобы этак мудро и беспрепятственно вещать истины, иметь учеников и, кто знает, может быть, и пострадать за общее дело. Я понимал, что верхом неприличия является поиск славы ради славы, понимал, что подлинная добродетель не нуждается в шумливой саморекламе, и вместе с тем вселившийся в меня мессия уже кликушествовал.
Новый свет - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Никакой ты не председатель, если у тебя такие ботинки! А твоя как фамилия?
— Никольников. А меня за что?
— Запишите и Никольникова.
И дежурный педагог записывает и Никольникова. Куда и зачем записывает, никому неизвестно… Только меры уже приняты. Несправедливые меры, но зато прижато все до отказа.
Я знаю, что такого рода мерами создается лишь видимость дисциплины. Мне стыдно, но я молчу. Я не сказал Шарову: «Прекратите это безобразие!» Но я готов к этому шагу. И Шаров это почувствовал, когда уходил. Я вспоминаю Волкова. Он, должно быть, обвинял меня в трусости.
— Ну-ну, куда вы еще скатитесь? — это его фразочка.
Я прихожу домой. Берусь за книги. За классиков. Чтобы сейчас же очиститься. Познать. Уверовать. И не понимаю, что нельзя с захламленной душой браться за хорошие и честные книжки. Я ловлю себя на том, что все эти классики заодно с ним, с Волковым. Заодно, чтобы против меня идти. Против меня, Шарова и Смолы! И к Достоевскому. И к Толстому. Ах, это великое гуманистическое начало: всегда и везде быть человеком! Но когда ты в кромешном аду — и со всех сторон тебя подпирает, со всех сторон на тебя накидываются, и нет времени для передыха, и ты должен немедленно решать, что угодно делать, а достичь результата. И Шаров в ярости, и я возмущен, потому что все рушится. И воспитатели в ярости, потому как моя гуманистическая болтовня им надоела. У гуманизма нет ручки, чтобы этак взять его как лопату — и пошел шуровать. Гуманизм — это состояние души. Это гарантия наилучшего состояния. А как получишь это состояние просветленности, если душа искорежена и измучена? И все же есть истина, есть непреложный закон. Гегелю не верю: не испытал полной чаши страданий, не мучился. Так, по крайней мере, мне кажется. А вот Достоевский и перед казнью оставался прежним, сохранившим свое главное состояние. И в кандалах не потерялся. Кожей ощущаю, как неосторожность кузнеца сводит ободком кованого железа кость его руки. Холод металла ощущаю — ощущаю то, что он испытал, и тогда свет лился из его души: «Я буду среди несчастных. И это великая радость жить. Быть рядом с обездоленными». Это уже не книжность. Это убеждает. И потому аксиомы: нравственное просветление в слитности с переустройством материальным. Нет, не внешнее благополучие решает все, а внутренний свет. И в бедности может быть гармония. И красота может быть! И истина может явиться. И доброта может и должна быть обнаружена.
Помню, в каком же восторге я решил для себя: никаких противостояний! Ни с Шаровым, ни с воспитателями, ни с детьми. Любить их такими, каких мир послал. Любить собаку Эльбу, Злыдня любить, Сашка любить, лошадей Майку и Ваську любить. Славу и Витю любить. Весь этот мир, залитый солнцем, любить. И спрятанный во тьме любить. И сила открытия рождает радость, буйность порыва создает.
Помню, как у меня допытывались: «А сколько вы бесед провели о трудовом воспитании?», «А как вы добились, что ваши дети так любят труд?» Беседы — чепуха! Я врывался в самую гущу детского сознания, в пятом часу утра нас как водой смывало: отряд в двести — триста человек отправлялся в поле и к двенадцати часам дня выполнял две взрослых рабочих нормы, а потом были занятия — обыкновенные учебные занятия, и Шаров закрывал на все эти нарушения режима глаза, посмеивался про себя, говорил: «Ох и надают же нам чертей, если узнают…» А я возражал: «Так воспитывали детей наши предки, так трудились крестьянские дети… К тому же, дорогой Константин Захарович, здоровье наших ребятишек улучшается с каждым днем…»
Помню я и самые худшие времена, когда с остервенелой силой Шаров ломал все наши педагогические самоуправленческие затеи. Причем что любопытно: так называемые нарушения возникали не в сфере труда или учебы, а в сфере либо чистого быта (не убрал постель, насорил, бумажек набросал: от этих бумажек спасу не было!), либо в общении взрослых и детей, когда дети на грубость отвечали грубостью, либо когда дети по-варварски обращались с мебелью, стеклами, столами: царапали парты, рисовали пистолеты и человечков на стенках, у них была какая-то нескончаемая страсть к резанию, к вандализму, точнее, даже если одного-двух захватывал этот самый агрессивный вандализм, то его достаточно было, чтобы причинить страдание всем педагогам, всему нашему ученическому самоуправлению. И еще одна штука: воровство. Воровство мелкое, повседневное, чаще всего перед отъездом домой… А потому наряду с хорошо организованным трудом шли в школе бесконечные разбирательства, и Шаров лаялся вовсю, и педагоги покрикивали, и Каменюка вопил что есть мочи: «Не доглядають воспитателя!»
Помню, как однажды я узнал, что оскорбленные Шаровым дети решили убежать. В двенадцатом часу ночи я вбежал в спальный корпус. Помню, Петровна выносила ведра с мочой.
Закутанная в старый платок, из-под которого виднелись еще две белых косынки — зубы болят, ворчит она:
— Да де ж це такс було, щоб дви цыбарки настять за вечор.
Я успокоил Петровну:
— Будут у нас туалеты, в розовом кафеле будут. И кресла нянечкам будут поставлены, и коечки, и простыни белые. Все будет, Петровна.
Не знала Петровна о моем новом свете. Я собрал ребят. Я говорил с ними как с самим собой. Я плакал в темноте, и мои слезы были проявлением мужества и доверия к ним. Я смотрел на детей. Они клялись в том, что будут следовать моим советам: они простят всем и обиды, и оскорбления.
Как же я тогда любил этих маленьких мужественных моих друзей! Моих единомышленников и истинных борцов за высокие человеческие идеалы.
Запахнутые в одеяла, они казались в лунном сиянии маленькими привидениями. Измученные и исковерканные своим прошлым, замордованные длинными дневными расследованиями, они несли на себе печать отверженности, печать покинутости, будто человечество предало их невиновность, навсегда лишив материнского тепла. Прокляло, бросив в эту холодную реликвию прошлого века. Стриженные наголо головки уродовали черты лица, прибавляли к их облику ту детдомовскую неприкаянность, которую отогреть можно только таким теплом, в котором горит страсть, не та обжигающая мгновенная страсть, а медленная всегдашняя страсть, дающая веру и надежду в самые тяжелые минуты отчаяния. И я проникся их отчаянием. И из этого отчаяния, может быть, тогда и родилась наша истинная демократическая сила. Я говорил долго и от всего сердца. Я признавал свою вину…
Тогда вдруг в одну секунду (я помню это мгновение) выпорхнула из общей коллективности эта истинная энергия, набрала силу и стала понятной и ощутимой для всех, вот тогда в одну секунду стало всем весело и спокойно. Я видел, как дети постепенно светлели. И я, прикасаясь к ним душой, чувствовал их тепло, и оно, это тепло, струилось от человека к человеку, и хватало даже тем, кто одиноко сидел в углу, замотавшись в покрывало. И общий, облегчающий душу смех разрядил тишину, когда Коля Почечкин тоненьким голосом проговорил:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: