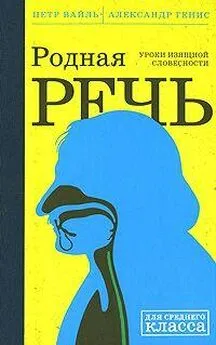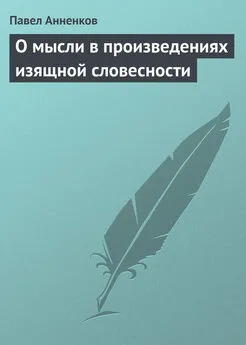Петр Вайль - Родная Речь. Уроки Изящной Словесности
- Название:Родная Речь. Уроки Изящной Словесности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:КоЛибри
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98720-043-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Вайль - Родная Речь. Уроки Изящной Словесности краткое содержание
«Читать главные книги русской литературы — как пересматривать заново свою биографию. Жизненный опыт накапливался попутно с чтением и благодаря ему…Мы растем вместе с книгами — они растут в нас. И когда-то настает пора бунта против вложенного еще в детстве… отношения к классике», — написали Петр Вайль и Александр Генис в предисловии к самому первому изданию своей «Родной речи» двадцать лет тому назад. Два эмигрировавших из СССР журналиста и писателя создали на чужбине книгу, которая вскоре стала настоящим, пусть и немного шутливым, памятником советскому школьному учебнику литературы. Мы еще не забыли, как успешно эти учебники навеки отбивали у школьников всякий вкус к чтению, прививая им стойкое отвращение к русской классике. Авторы «Родной речи» и попытались снова пробудить у несчастных чад (и их родителей) интерес к отечественной изящной словесности. Похоже, попытка увенчалась полным успехом. Остроумный и увлекательный «антиучебник» Вайля и Гениса уже много лет помогает выпускникам и абитуриентам успешно сдавать экзамены по русской литературе.
Родная Речь. Уроки Изящной Словесности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Все это, вместе взятое, изобличает в «Ионыче» именно роман, во всяком случае — романный замысел. Тот замысел, который присутствует у Чехова на протяжении всей его зрелой прозы. Если использовать бахтинскую формулу «человек или больше своей судьбы, или меньше своей человечности», можно сказать, что у Чехова в качестве вечной, почти навязчивой идеи — всегда лишь вторая часть антитезы. Его герои неизменно — и неизбежно — не дорастают до самих себя. Само слово «герои» применимо к ним лишь как литературоведческий термин. Это не просто «маленькие люди», хлынувшие в русскую словесность задолго до Чехова. Макар Девушкин раздираем шекспировскими страстями, Акакий Башмачкин возносит шинель до космического символа. У доктора Старцева нет ни страстей, ни символов, поскольку он не опознал их в себе. Инерция его жизни не знает противоречий и противодействий, потому что она естественная и укоренена в глубинном самонеосознании. По сравнению со Старцевым Обломов — титан воли, и никому не пришло бы в голову назвать его Ильичем, как того — Ионычем.
Человек Чехова — несвершившийся человек. Конечно, это романная тема. По-романному она и решена. Поразительно, но в коротком «Ионыче» нашлось место даже для почти обязательной принадлежности романа — вставной новеллы. Доктор Старцев на ночном кладбище в ожидании несостоявшегося свидания — это как бы «Скучная история», сжатая до нескольких абзацев.
Как Дмитрий Ионыч Старцев переживает за несколько минут все свое прошлое и будущее, так и в самом «Ионыче», великолепном образце изобретенного Чеховым микро-романа, прочитывается и проживается так и не написанный им «настоящий» роман на его главную тему — о неслучившейся жизни.
ВСЕ — В САДУ. Чехов
Гениальная неразборчивость Чехова в выборе персонажей привела к тому, что ни один из его поздних героев не стал типом. Доверие к случайности, ставшее высшим художественным принципом, отразилось даже в выборе фамилий. В списке действующих лиц царит уже не разнообразие, а откровенный произвол: Тузенбах, Родэ, Соленый, Симеонов-Пищик — все эти экзотические имена не имеют никакого отношения к характеру своих хозяев. В противовес долго сохраняющейся в русской литературе традиции крестить героев говорящими именами, фамилии в чеховских драмах случайны, как телефонная книга, но вместо алфавита их объединяет типологическое единство, которое автор вынес в название одного из своих сборников — «Хмурые люди».
Сейчас, сто лет спустя, кажется, что больше тут подошло бы что-то другое: например — свободные люди.
Герои Чехова состоят в прямом родстве с лишними людьми Пушкина и Лермонтова, в отдаленном — с маленьким человеком Гоголя, и — в перспективе — не чужды сверхчеловеку Горького. Составленные из столь пестрой смеси, все они обладают доминантной чертой — свободой. Они ничем не мотивированы. Их мысли, желания, слова, поступки так же случайны, как фамилии, которые они носят по прихоти то ли автора, то ли жизни. (Говоря о Чехове, никогда нельзя провести решительную черту.)
Набоков писал: «Чехов сбежал из темницы детерминизма, от категории причинности, от эффекта — и тем освободил драму». А заодно — и ее героев.
Почти каждый его персонаж — живет в области потенциального, а не реализовавшегося. Почти каждый (даже «американец» Яша) — не завершен, не воплощен, не остановлен в своем поиске себя. Чеховский герой — сумма вероятностей, сгущение непредсказуемых возможностей. Автор никогда не дает ему укорениться в жизни, врасти в нее окончательно и бесповоротно. Человек по Чехову еще живет в разумном, бытийном мире, но делать там ему уже нечего.
Единицей чеховской драмы, ее атомом, является не идея, как у Достоевского, не тип, как в «натуральной школе», не характер, как у Толстого, а просто — личность, цельный человек, про которого ничего определенного сказать нельзя: он абсурден, так как необъясним. Абсурда хватает и у Гоголя, и у Достоевского, но в их героях есть сердцевина — авторский замысел о них. У Чехова случайная литературная обочина стала эпицентром повествования: человек «ушел» в нюанс.
Неисчерпаемость чеховского образа поставила предел сценическому искусству. Чтобы овеществить такого героя — в гриме, костюмах, декорациях, интонациях — нужно упростить пьесу, придать ей черты законченности, выдать мнимую интригу за настоящую, имитацию жизни — за кусок подлинной, неопосредованной искусством реальности, актерскую маску — за людей.
При этом Чехов имел дело только с заурядными, неинтересными для литературы людьми. Вернее — сводил к заурядности все, что может показаться экстраординарным (Тригорин). Чудачество (Гаев) — пожалуйста, но не больше, ибо существенное отклонение от нормы — гениальность или безумие — уже уничтожает свободу тем, что мотивирует героя. Экстравагантность в культуре XX века — реакция на массовое общество, компенсация обезличенности. Но Чехову еще хватало простого — никакого — человека.
По сути, каждый его персонаж — эмбрион сюрреализма. В нем, как в ядерном заряде, сконденсирован абсурд повседневного существования. Кафка, а еще эффектнее Дали, эту бомбу взорвал, чем, между прочим, сильно упростил чеховский мир, энергия которого заключалась именно в свернутости структур, потенциально способных перерасти границы жизнеподобия.
Произвольность, неповторимость, индивидуальность чеховских героев — внешнее выражение той свободы, которая дошла до предела, сделав жизнь невыносимой: никто никого не понимает, мир распался, связи бессодержательны, человек заключен в стеклянную скорлупу одиночества. Чеховский диалог обычно превращается в перемежающиеся монологи, в набор безадресных реплик. Чуть ли не все, что говорят в чеховских драмах, можно было бы снабдить ремаркой «в сторону».
Такая свобода — тяжкое бремя: от нее мечтают избавиться. Отсюда постоянный рефрен: надо трудиться («Оттого нам невесело и смотрим мы на жизнь так мрачно, что не знаем труда» — «Три сестры»). То есть, из свободного и потому лишнего человека — превратиться в кого-то: телеграфиста, учительницу, банковского служащего, хотя бы в жену («Три сестры» — «Лучше быть простой лошадью, только бы работать»).
Чеховские герои мечутся по сцене в поисках роли — они жаждут избавиться от своей никчемности, от мучительной свободы быть никем, от необходимости просто жить, а не строить жизнь.
Однако у Чехова никто не работает. Разве что за кулисами (Лопахин, например), но на сцене — никогда. Даже врач — фигура для автора крайне значительная, особая — появляется лишь для того, чтобы констатировать смерть (Дорн в «Чайке») или рассказать, как он зарезал больного (Чебутыкин в «Трех сестрах»). Доктор не может помочь чеховским героям, потому что они страдают не тем, что лечат врачи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: