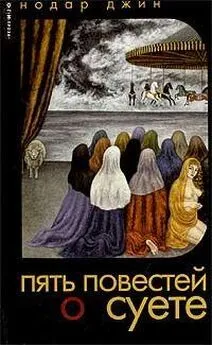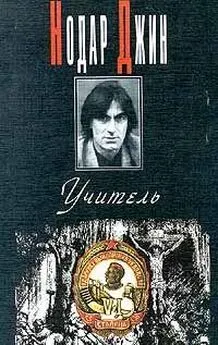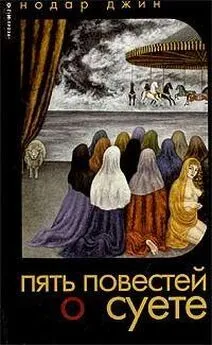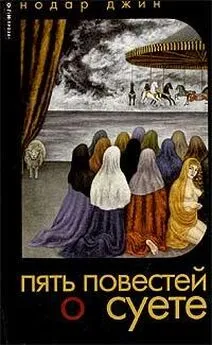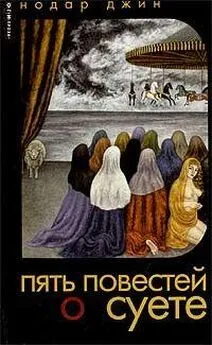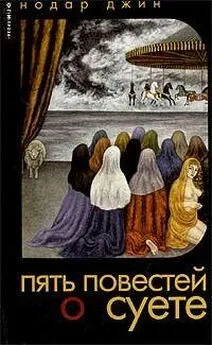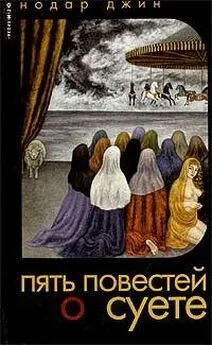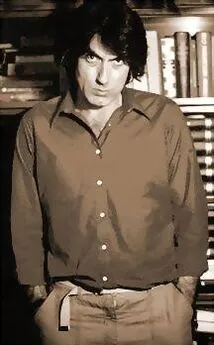Нодар Джин - Повесть о смерти и суете
- Название:Повесть о смерти и суете
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Объединенное Гуманитарное Издательство
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-94282-093-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нодар Джин - Повесть о смерти и суете краткое содержание
Нодар Джин родился в Грузии. Жил в Москве. Эмигрировал в США в 1980 году, будучи самым молодым доктором философских наук, и снискал там известность не только как ученый, удостоенный международных премий, но и как писатель. Романы Н. Джина «История Моего Самоубийства» и «Учитель» вызвали большой интерес у читателей и разноречивые оценки критиков. Последнюю книгу Нодара Джина составили пять философских повестей о суетности человеческой жизни и ее проявлениях — любви, вере, глупости, исходе и смерти.
Повесть о смерти и суете - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Натела! — сказал я. — Если верить нашим людям, ты любишь деньги. Я к тебе потому и пришёл…
— Нашим людям верить нельзя, — рассмеялась она. — Они недостойны даже моего мизинца на левой ноге! — и выбросила её мне из-под шёлкового халата: — Знаешь, что про это сказал Навуходоносор?
— Про твою ногу? — скосил я глаза на предложенную мне голую ногу. Тотчас же вспомнил, однако, что вавилонянин не был знаком ни с ней, ни даже с ножками Исабелы-Руфь, ибо жил очень давно. В чём, как убедил меня взгляд на Нателины колени, заключалась главная, но незарегистрированная историей ошибка Навуходоносора.
— А Навуходоносор сказал так: «Люди недостойны меня; выберу себе облако и переселюсь туда»!
— Значит, был прогрессистом: выбирал пространство с опережением времени! Обычно люди переселяются туда уже после кончины, — ответил я и добавил. — Иногда, правда, облака сами снисходят до них… Из Турции…
— Навуходоносор был не прогрессист, а реалист: люди, говорил он, недостойны того, чтобы жить среди них, — пояснила Натела. — Что такое люди? Лжецы и завистники! Снуют взад-вперёд с закисшими обедами в желудках. И ещё воняют потом. И носят вискозные трусы, которые влипают в жопу! А представь себе ещё напиханные в живот кишки! Ужас!
Я опешил, но Натела смотрела вниз, на петуха:
— Правда?
Петух не ответил, и она продолжила:
— За что только Бог их любит, людей?!
— Кто сказал, будто любит?! — возмутился я.
— Я говорю! — ответила Натела. — Меня, например, любит. Раз не убивает, раз потакает, значит, любит. Бог порченых любит. Без них мир давно загнил бы.
На лице её блуждала улыбка, но я не мог определить — над кем же она всё-таки издевалась: надо мною ли, над собой, или — что легче и понятней — надо всем человечеством.
20. Человек поступает благородно только когда нету выхода
Вскоре у меня возникло подозрение, что её надменность есть лишь мера отчуждённости от сущего. Той самой отчуждённости, которая, будучи обусловлена ещё и порченостью, так дразнила меня в Исабеле-Руфь. Подозрение это сразу же окрепло во мне и перешло в догадку, что сам я так ведь, наверное, и устроен.
Потом, как водится со мной, когда меня смущает нелестное самонаблюдение, я напрягся и попытался отвлечь себя затейливой мыслью. Мужчина имеет ответ на любой вопрос, но не знает этого ответа, пока женщина не подберёт к нему правильного вопроса.
Это утверждение, однако, показалось мне благоразумным, то есть неспособным обрадовать, поскольку волнует только неправильное. И поскольку благоразумным можно довольствоваться только если всё другое уже испытано.
В поисках веселья я вывернул правильное наизнанку: женщина имеет ответ на любые вопросы, но находит эти вопросы мужчина.
Я задумался и нашёл это одинаково правильным.
Испугался безвыходности. В чём же спасение, если любой ответ благоразумен?
Спасение найдено было молниеносно: надо мыслить только вопросами. И только такими, которые завораживают, как сама жизнь, а не как обобщение о ней, ибо на эти вопросы нету ответа, как нету смысла в существовании.
Улыбнувшись этой находке, я пробился, наконец, и к тому самому вопросу, на который, собственно, и навела меня Натела. А что если у меня с нею одна и та же душа?
И что — если на свете действительно слишком много людей, больше, чем душ, а поэтому многие из нас обладают одной?
Что если когда-нибудь в будущем плоть моя вернётся в этот мир, как вернулась в Нателе Исабела-Руфь? И в эту мою плоть угодит эта же моя душа? Это же сознание? Поразительно, но возможно. Особенно если учесть, что речь идёт не о денежной лотерее, в которой никому не везёт.
Впрочем, о каком тут приходится говорить везении, если попасть в самого же себя при таком изобилии людей есть как раз невезение! А что если, подобно Нателе, я — такой же, какой есть — уже когда-то существовал и просто ещё раз попал сейчас в самого себя?
Вопрос этот развеселил меня — и я с восхищением подумал о водке, которая, как оказалось, разъела жгут, удерживавший во мне моё же сознание точно так, как удерживают на нитке накаченный гелием шар. Я с восхищением подумал и о самом шаре — о собственном мозге: как же ему, дескать, удаётся так высоко парить? Вопрос был риторический и ответа не имел. Если бы мой мозг был столь прост, что его можно было бы понять, то я, как известно, был бы столь глуп, что не смог бы этого сделать.
Теперь уже улыбался и я.
— А ты ведь тоже себе нравишься! — рассмеялась Натела. — И беседуешь с собой, потому что считаешь всех дураками.
— Я и с собой, кстати, общаюсь как с дураком…
— Полезно?
— С дураком общаться полезно только если он умнее тебя.
— А я, наоборот, не люблю мудрость, — улыбнулась Натела и сверилась с петухом. — Правда? Если бы с глупостью возились так же, как с мудростью, из неё вышло бы больше толку. А что — мудрость? Что она кому дала?
— Можно ещё раз? — спросил я и потянулся к графину.
— Надо же закусить! — воскликнула она и, поставив петуха на пол, принесла мне тарелку с вилкой и ножом.
Потом шагнула к оконной раме, в которой задыхалось забредшее из Турции пенистое облако. На раме снаружи покачивались на шнурах рассечённые вдоль грудины засушенные гуси. Натела поддела один из шнуров пальцем и положила на стол птицу, бесстыдно распахнувшую предо мной свои недра.
Петух посмотрел сперва на гуся, потом — внимательней — на меня и, нервно моргая пунцовыми веками, вернулся к хозяйке на колени.
— Это Сёма гусей сушит, не я, — оправдалась Натела. — Научился у отца, царствие ему!
— Когда же он успевает? — удивился я.
— Он не работает, — ответила Натела. — Да и стихи не рифмует…
Мне снова стало не по себе: над кем же она издевается теперь — надо мной или Сёмой?
— А мне эти стихи нравятся, — соврал я. — Он тебя любит.
Натела вдруг вскинулась и, подавшись ко мне, закричала:
— Не смей!
Я догадался, что сердилась она не на меня.
— Никто в этом мире никого не любит! — крикнула Натела. — И это правильно! Любовь только калечит! Она — не от этого мира! От этого — другое! — и, выдернув из горлышка графина длинную затычку, ткнула её мне под нос. — Вот это! И ещё деньги!
Зрачки её пылали яростью затравленного зверя — и мне не верилось, что лишь недавно они напомнили мне лилии в китайских прудах. До этой встречи с Нателой я и не знал, что отсутствие любви или её недоступность может вызывать у человека животный гнев. Понял я другое: гнев этот у неё — от неуходящей боли…
— Правда? — буркнул я после паузы. — А я слышал, что Сёма тебя любит. Зачем бы писал стихи? Каждый день.
— А затем, что у него каждый день не хватает яйца, — проговорила она теперь очень спокойно. — И потому что он любит себя, я не меня. Я же классная баба: и отдавать меня другим он не хочет. Как не хочет отдавать мне свои бриллианты…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: