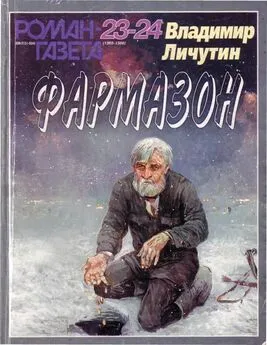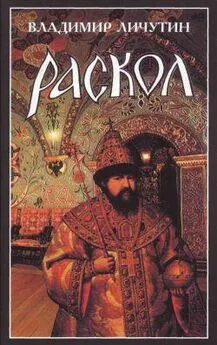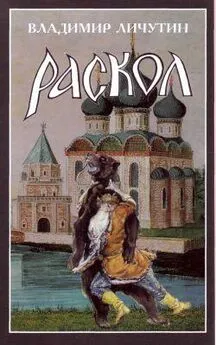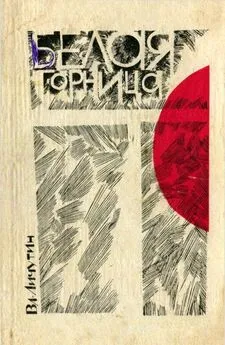Владимир Личутин - Последний колдун
- Название:Последний колдун
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Личутин - Последний колдун краткое содержание
Две повести «Обработно - время свадеб» и «Последний колдун» по существусоставляют художественный роман о жизни народа проживающего на севере России у самого края моря. Автор раскрывает внутренний мир и естественные, истинные чувства любви своих героев, проявление заботы и внимания к людям, готовности оказать им помощь, не утраченные несмотря на суровые условия жизни и различные обстоятельства в отношениях и быте.
Последний колдун - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И заплакал, и тут же промокнул влагу воротом рубахи.
... Храбрая молодость наша, наша мо-лодец-кая.
Эх-да не запомнил, ой-ой, да когда прош-ла-а.
Ой прошло да прокатилосе, ой-да, пора-времечко, да-а.
Ох времечко миновалосе, да-ой, как за единый часик.
Ой-да времечко мне показалосе, ох-ой, да за минуточку.
Поперхнулся Геласий, духу не хватило верхнее коленце так взрыдающе взять, чтобы душа посторонняя, услышав случайно, перевернулась разом и холодом облилась... Раньше-то, как в армию походить, все ревмя обревутся: матка причитает, кресная ей в голос, сестры, как мокры курицы, слезами хлюпают, отец ино вдруг дернется в сторону, ус закусит и глазом рипнет, будто сорина проклятущая под веко села. Кажется, что грудь такой тоски не воспримет, лопнет под рубахой. Деревню обойдешь, откланяешься, словно бы навсегда простишься, и, как под гору сойдешь, да в карбасок ступишь, медля ногой, тут матушка и вскрикнет, как птица-гагара:
...Как после твоего-то бывания великого
Повянут травушки-то у нас да муравые,
Посохнут цветики у нас лазуревые,
Будет зимушка стоять да холодная
В моем зябленьком-то ретивом сердце...
А и то, долго ли человеку сронить голову на чужой стороне: пуля ли возьмет, иль мор какой сокрушит, иль плен долгий голодом источит, а мати все стереги, изнывай душой, изводись, глядючи в оконце, жди-поджидай вести казенной. У матери душа всегда в больной коростинке: не знала, но чуяла, что сыну долго в родных домах не бывать. Как заходить Геласию в карбасок, сунула к губам медную иконку выговского литья: Исус-страдалец на кресте. На медной плашке проушина с кожаной тесьмой. «От матери образок. Веруй, сынок, и спасешься». – «Ты чо это... Куда эка тяжесть?» – «От мамушки образок», – тупо повторяла. Пришлось голову склонить, подставить шею.
Семь лет под пулей был – и выжил. Это нынь все просто, вроде и горя не видал. В бога не верил, а образок материн все при себе таскал: вот и сейчас в изголовье, на божнице. Помру, пусть на грудь покладут.
...Да мать сыра-то ли земля – наша постелюшка,
Зло-лихо кореньице – наше изголовьице,
Ветры буйные-то – наше одеялышко,
Да роса утрення-то – наше умываньице,
Да шелкова трава – ведь наше утираньице.
...Бывало, в окопах-то запою, так век, говорят, тебя бы, Геласьюшко, слушал. Человеку помирать не хочется, он к жизни тянется, в нем от песни все оживает. Песельников всегда любили... Вот засну и не проснусь более – такую слабость в себе слышу. А чуть ожил – и пою. Вот как воспринять? Сколько в человеке жизни? В одном чуть отворил жилу – и разом кончился, а другому – конца веку нет. Казалось, уж кранты мне, кончик, старуха с косой возле шеи. В четырнадцатом годе на штыки ходил за царя-батюшку, за отечество: в чужой кровищи по шею ухвостаешься – и ничего не страшился. Какая-то храбрость во мне лешева была... В дозор пошлют, скажут, возьми, Геласий, «языка» – и берешь. Орудие лова отыщешь, да хорошо огреешь в бачины, но так, чтобы не насовсем, и волокешь сердешного в свои окопы, только пятки взлягивают. И отмечали добро: сначала медаль Георгиевскую за храбрость, а после и два креста выслужил... Три года под богом ходил, проносило. А в семнадцатом с донесением спешу и не добежал-то до своих окопов сажен пять, слышу – ожгло. Ах ты, думаю, любить твою бабу. Кричу: «Братцы, меня ранило в обои ноги». Выскочил солдатик, вскинул на кукорешки и унес. С тем и кончилась для меня ерманская... Куда-то кресты задевали? Одного «Георгия», знаю, что уволок Колька, ухорез такой, небось кинул где ли на помойку. А те поощренья надо бы сыскать – за храбрость дадены, за отечество. Пускай бы Матренка на пинжак навесила. Теперь не придерутся, нынче нету такой моды, чтобы за старое притеснять.
...Во неволюшке наш добрый молодец сидит, тужит...
Зачем на горе да родный батюшка меня изнасеял,
На злосчастьице родна матушка да спородила,
Да где родила-то родна матушка, тут бы и сгубила...
Утомился Геласий, шея натекла от горы подушек. Сполз в постелю, и рука невольно скатилась с груди, немощная, белая; с трудом поднял, осмотрел, будто постороннюю, уродливо искривленную, с бурыми кореньями пальцев, стянутых вечными мозолями к ладоням, с впалыми пожелтевшими венами и узлами суставов. Пробовал напружинить и ощутить былые связи сухожилий и мышц, но прежней силы че почувствовал... «Вот он, лядащий человечишко, – подумал о себе с грустной усмешкой. – А был в силе. Руки, ноги, голова, все делающие ремесло. Так по прежней религии, по старой вере. Вот, к примеру, человек удавился, петлю на горло. Это что значит? Это он не хочет работать, детей рожать и кормить. Думает, страдалец он, раз руку на себя наложил? А он тьфу. Изнемог – и канул. Но я-то живу? Кто я и зачем живу? Но раз живу, то кому-то, значит, надо, чтобы я жил. Руки, ноги, голова – все делающие ремесло.
И чтобы удостовериться внезапно родившейся мысли, раскинул Геласий руки и даже головой покрутил на подушке, и тело, едва выпирающее под лоскутным одеялом и похожее на поваленный, огрузнувший в земле столб, оглядел внимательно. За этим странным занятием и застал его Степушка.
– Дедо-о, я в город на выписку поехал.
Геласий не шевельнулся, всматриваясь в откинутую восковую руку.
– Де-до, ты спишь?
Старик повернул голову, в студенистых глазах трудно нарождалось вниманье: недавние мысли ошеломили Геласия.
– Степка, я ходячий живой крест, – непонятно заговорил он, запинаясь. – И ты крест... Все мы кресты ходячие... Это я додумался.
Что-то страшное почудилось во всем насупленном, высохшем волосатом обличье деда.
– Ты что, совсем того? – покрутил Степушка пальцем у виска. – Я ему невесту подыскал, а он хреновину порет.
– Дурак, – незло откликнулся Геласий Созонтович. – Два человека в деревне были – Феколка и я. Она земли не видела, все поверху летала, а я – неба. Это я неба-то не видал, слышь? Любить твою бабу. Я неба-то не видал, какое оно. А нынче проснулся, оно как ударит в глаза. Ой-о-о... И помолился я дланью вот так. – И старик истово осенил себя крестом. – С германской не маливался, а нынь – вот так...
13
Пока Степушка застыло торчал под полосатым сачком, невольно вылавливая дальний самолетный гул, и спинывал почерневшие клеверные головки, отвернув от Любы скучные глаза, а после неловко и торопливо прощался, тыкаясь обветренными губами в ее напряженно закаменевшую щеку; пока умащивался в нахолодевшем брюхе «аннушки» и тайно следил в оконце за сиротливо одинокой женой, сейчас совсем незнакомой и чужой, отсюда странно похожей на несчастную вдову, убитую горем, в этом сбившемся нейлоновом плащике, зазябшую от низового сиверика, с угрюмоватым похудевшим лицом, вовсе некрасивым и незнакомым; пока на крутом вираже вроде бы прощался с деревней, сиротски заброшенной в крохотный прогал меж таежных увалов; да пока муторно летел до города, – горло все время запирало грустью, мешавшей свободно дышать и жить, а душу скручивало до нытья, словно бы навовсе отбыл из Кучемы. И Степушка мысленно давал Любе обещанья и нашептывал самые добрые слова, летучие и розовые: ты не горюнься, любимая, ты не печалься, не успеет комар и песни допеть, а я уж в обрат лыжи навострю. Еще не народился тот начальничек, чтобы в пику мне: в таком случае – айн-цвай, ауфвидерзеен, я ваша тетя...
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: