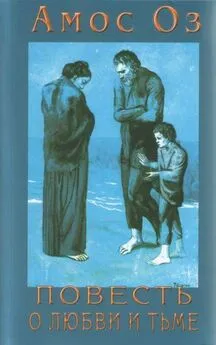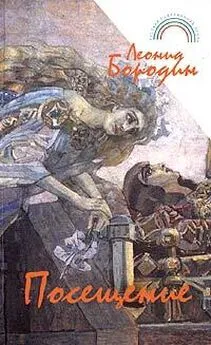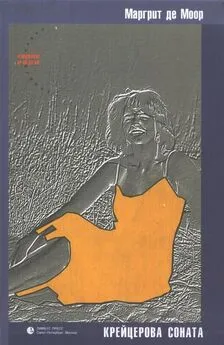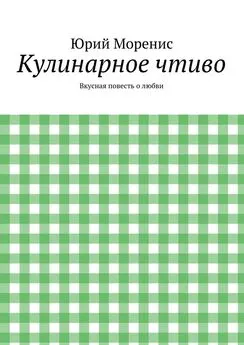Амос Оз - Повесть о любви и тьме
- Название:Повесть о любви и тьме
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Едиот Ахронот
- Год:2005
- ISBN:965-511-520-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Амос Оз - Повесть о любви и тьме краткое содержание
Известный израильский писатель Амос Оз родился в 1939 году в Иерусалиме. Он является автором двадцати двух книг, которые переведены на тридцать четыре языка. На русском языке были опубликованы романы «Мой Михаэль», «До самой смерти», «Черный ящик, «Познать женщину».
Перед нами новая книга Амоса Оза — «Повесть о любви и тьме». Любовь и тьма — две силы, действующие в этом автобиографическом произведении, написанном как захватывающий роман. Это широкое эпическое полотно воссоздает судьбоносные события национальной истории, преломленные через судьбы родных и близких автора, через его собственную судьбу. Писатель мужественно отправляется в путешествие, ведущее его к тому единственному мигу, когда судьба мечтательного подростка трагически ломается и он решительно уходит в новую жизнь. Используя все многообразие литературных приемов, которые порой поражают даже искушенного читателя, автор создает портрет молодого художника, для которого тайны собственной семьи, ее страдания и несбывшиеся надежды становятся сердцевиной его творческой жизни. Большое место занимают в книге те, с кем жизнь сводила юного героя, — известные деятели эпохи становления Еврейского государства, основоположники ивритской культуры: Давид Бен-Гурион, Менахем Бегин, Шаул Черниховский, Шмуэль Иосеф Агнон, Ури Цви Гринберг и другие. Сложные переплетения сюжета, потрясающая выразительность многих эпизодов, мягкая ирония — все это делает «Повесть о любви и тьме» глубоким, искренним, захватывающим произведением. Неслучайно в Израиле продано более 100.000 экземпляров этой книги, и, переведенная на многие языки, она уже перешагнула границы нашей страны. В 2005 году Амос Оз удостоен одной из самых престижных мировых премий — премии Гёте.
Повесть о любви и тьме - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Слова «ее» или «она» покрывали память о маме, словно каменная глыба без надписи. Слова «кто-нибудь там» или «они там» обозначали разрыв всех связей между ним и семьей мамы. Эти связи никогда более не были возобновлены: «они» считали его виноватым. Связи его с другими женщинами — так подозревали мамины сестры из Тель-Авива — отравили жизнь их сестры. А также и все те ночи, когда сидел он у письменного стола, спиной к ней, отдавая все свое внимание своим писаниям и своим карточкам. Папа был потрясен этим обвинением, оскоблен им до глубины души. Мои поездки в Тель-Авив и в Хайфу он оценивал примерно так, как в те годы, когда арабские страны бойкотировали и тотально отрицали Израиль, они, эти страны, оценивали посещение нейтральными деятелями еврейского государства: мы, дескать, воспрепятствовать не можем, поезжай, куда хочешь, но, пожалуйста, в нашем присутствии не называй это место, а, возвратившись, ничего нам не рассказывай. Ни хорошего, ни плохого. И им ничего о нас не рассказывай. Ибо мы не желаем слушать, и нам не интересно что-либо узнать. И вообще, стоит быть тебе поосторожнее, чтобы не поставили тебе в паспорт никакой нежелательной печати.
Через три месяца после самоубийства мамы наступил, согласно еврейскому обычаю, день моего совершеннолетия — «бар-мицва». Никакого торжества не устраивали. Ограничились тем, что в субботу утром меня вызвали к Торе в синагоге «Тахкемони», и я пробормотал недельную главу Торы. Все семейство Мусман прибыло из Тель-Авива и из Кирьят Моцкин, но нашло себе угол в синагоге как можно дальше от того места, где расположились Клаузнеры. Ни одним словом не обменялись враждующие стороны. Лишь Цви и Бума, мужья моих тетушек, кажется, все-таки позволили себе легкий, почти незаметный кивок головой. А я носился, как ошалевший щенок, меж двух станов, взад-вперед, изо всех сил изображая счастливого, умеющего пошутить мальчика, безостановочно болтающего и тут и там. Я подражал манерам папы, ненавидевшего всю свою жизнь паузы, всегда считавшего себя лично виноватым в каждом миге молчания и обязанным его изгнать.
Только дедушка Александр, не колеблясь, пересек железный занавес, взял и поцеловал в щеку мою бабушку из Хайфы, обеих маминых сестер трижды, по русскому обычаю — в левую, правую и снова левую щеку. Он прижал меня к себе и сказал светло и радостно, как всегда перемежая ивритские и русские слова:
— Ну, что ? Мальчик замечательный, нет? Мальчик молодец ! И очень способный! Очень-очень способный! Очень!
Вскоре после нового брака отца я настолько запустил свои школьные занятия, что даже последовало предупреждение об исключении из школы (через год после смерти мамы перевели меня из школы «Тахкемони» в гимназию «Рехавия»). Папа был обижен, был потрясен, наложил на меня всякие наказания. Постепенно он начал подозревать, что это — мой способ вести партизанскую войну, что я не остановлюсь, пока не заставлю его согласиться на мой уход в кибуц. И он тоже объявил мне войну: всякий раз, как я заходил в кухню, отец, не говоря ни слова, тут же вставал и уходил. Но однажды, в пятницу, он вышел из привычных рамок и проводил меня до старой автобусной станции кооператива «Эгед», находившейся в середине улицы Яффо. Перед тем, как поднялся я в автобус, отъезжающий в Тель-Авив, папа вдруг сказал:
— Если тебе это подходит, ты, уж будь любезен, спроси там, пожалуйста, что они думают о твоих планах относительно кибуца. Разумеется, их мнение нас совершенно ни к чему не обязывает, да и не очень-то интересует, но на сей раз я не стану противиться тому, чтобы услышать, как они видят подобную перспективу.
Еще до того, как произошло несчастье, с началом маминой болезни, а может, и еще раньше мои тель-авивские тетушки считали отца человеком эгоистичным и даже немного тираном. Они были уверены, что после смерти мамы я задыхаюсь под гнетом его деспотизма, а со времени его новой женитьбы надо мной измывается — так они полагали — и мачеха. Раз за разом, будто намеренно досаждая своим тетушкам, я изо всех сил старался представить отца и его жену в самом замечательном свете: они преданно заботятся обо мне, стремятся, чтобы я ни в чем не испытывал недостатка. Тетушки не желали слышать ни единого слова: удивлялись, сердились, обижались, словно я пытался прославлять режим Насера или защищать теракты федаюнов. Обе они моментально затыкали мне рот, едва я начинал свою речь во славу отца. Тетя Хая, бывало, говорила:
— Хватит. Прекрати. Этим ты причиняешь мне боль. Они там, как видно, отлично промывают тебе мозги.
Что до тети Сони, то она не выговаривала мне, когда в ее доме я пытался сказать доброе слово об отце или его жене, — она всякий раз немедленно заливалась слезами.
Действительность сама говорила за себя их пристрастному взгляду: я казался им худым, как тростинка, чахоточным, бледным и нервным, плохо отмытым. Несомненно, я у них там без призора. Если не что-нибудь похуже. Что это за ранка у тебя на щеке? Тебя не отправили к врачу? А этот драный свитер, он единственный у тебя? А когда в последний раз покупали тебе новое белье? А деньги на обратный автобус? Наверняка забыли тебе дать. Нет? Почему ты упрямишься? Почему не позволишь нам положить тебе в карман несколько лир на всякий случай?
Из рюкзака, собранного мною для субботней поездки в Тель-Авив, тетушки сразу же извлекали рубашку, пижаму, белье, носки и даже запасной носовой платок. Поцокав языком, не сказав ни слова, они выносили свой приговор: отправить все немедленно в стирку с кипячением, либо вывесить на балконе часа на два, чтобы все хорошо проветрилось, после чего тщательно прогладить, а иногда — и уничтожить без всяких компромиссов. Будто возникла какая-то опасность эпидемии, а может, мои вещи отправляются на перевоспитание. Первым делом, меня посылали в ванную, а вторым: «Ступай на балкон, посиди полчаса на солнце, ты ведь бледен, как стена. Да съешь гроздь винограда. Или яблочко? Немного свежей морковки? А потом пойдем и купим тебе новое белье. Либо человеческую рубашку. Либо носки». Обе тетушки усердствовали, потчуя меня куриной печенкой, рыбьим жиром, фруктовыми соками, массой свежих овощей. Словно прибыл я к ним прямо из-за колючей проволоки, окружавшей гетто.
Что же до моего ухода в кибуц, тетя Хая тут же вынесла свой вердикт:
— Конечно же, да! Желательно, чтобы ты от них немного отдалился. В кибуце ты подрастешь, окрепнешь и постепенно выздоровеешь.
А тетя Соня, опечаленно обняв меня за плечи, предложила:
— Пусть так, попробуй пожить в кибуце, но если и там ты, не приведи Господь, почувствуешь себя несчастным, то просто поселись у нас. А?
В конце девятого класса я внезапно оставил бойскаутскую организацию «Цофим» и почти перестал посещать занятия в гимназии «Рехавия». Целый день я в одиночестве, в трусах и майке, валялся на спине в своей комнате, поглощая книгу за книгой, поедая при этом груды сладостей, кроме которых я в те дни почти ничего не ел. Я уже был отчаянно влюблен. Влюблен до слез, без тени надежды — в одну из принцесс нашего класса. Это не была та юная любовь с горько-сладким вкусом, о которой я читал в книгах: там описывалась не только боль души, переполненной любовью, но и ее смятение и вознесение. Я же чувствовал себя так, будто оглушили меня ударом железной палицы по голове. Будто попал я из огня да в полымя. И тело мое именно в эти дни не переставало издеваться надо мной не только по ночам, но и в дневные часы — оно вело себя безобразно и не знало насыщения. Я хотел выйти на свободу, раз и навсегда освободиться от этих двух врагов — от тела и от души. Я хотел быть облаком. Быть камнем на поверхности луны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: