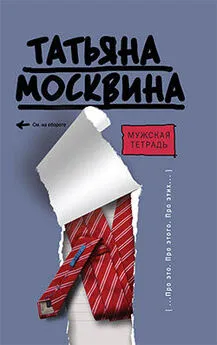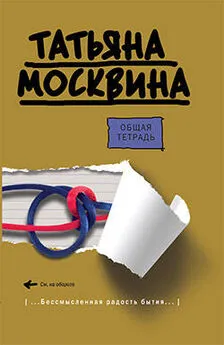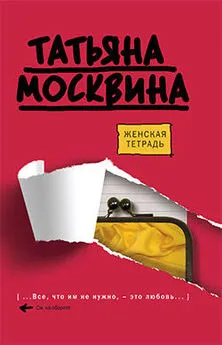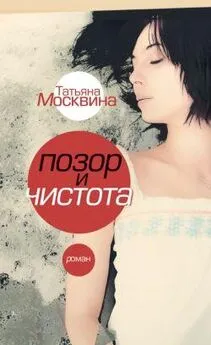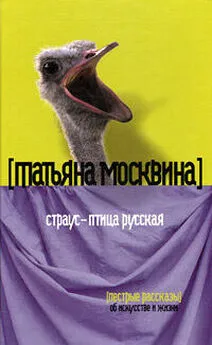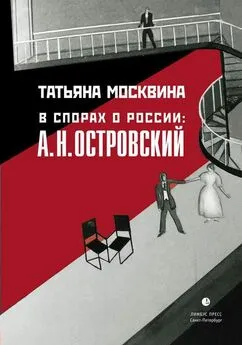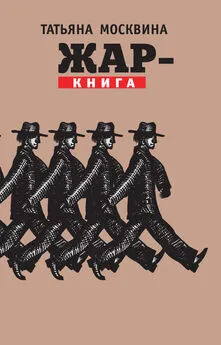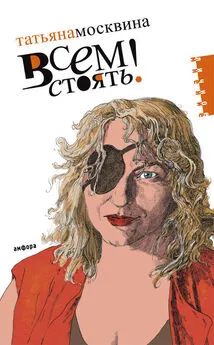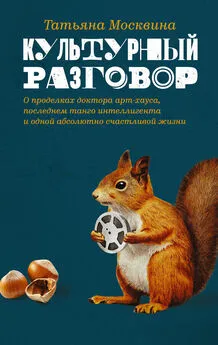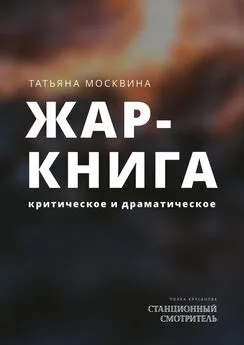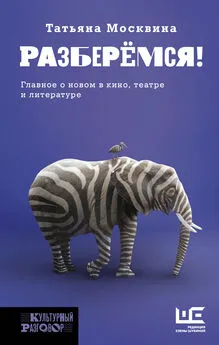Татьяна Москвина - Мужская тетрадь
- Название:Мужская тетрадь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:0dc9cb1e-1e51-102b-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:2009
- Город:М.
- ISBN:978-5-17-054554-4, 978-5-271-24079-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Москвина - Мужская тетрадь краткое содержание
О чем бы ни писала Татьяна Москвина, известный сценарист, критик и прозаик, о театре, кино, питерских комарах или бонтоне и моветоне в городе на Неве, – ее тексты отличают блистательное остроумие и необычный взгляд на вещи. В «Мужской тетради» собраны эссе о киногероях и актерах, политических деятелях и шоуменах, составляющие своеобразный «портрет мужчины нашего времени».
Мужская тетрадь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Определенные претензии на близкое родство с императрицей предъявили некоторые эстрадные певицы, живо чувствующие подводные хаотические движения массового сознания. Так, Надежда Бабкина исполнила песню о том, что «Екатерина Вторая что-то приснилася мне». Припев песни гласил: «Катя-Катерина! Господи, прости! Ты – царица мира и всея Руси!» Надежда Бабкина, как карикатурный вариант одного из вульгаризированных отражений «царицы-матушки», еще могла иметь какие-то права видеть во сне Саму. Но вот Ирина Аллегрова, тоже решившая утверждать, что она – «…о-о! Шальная – и-и-императрица!», уже зарвалась. Понятно, что дамы легкого поведения, которые поют, всегда будут неравнодушно-завистливы к Екатерине. Ей ведь удалось небывалое в истории женского человечества, она осуществила на практике великую эротическую утопию: имела кого хотела, когда хотела и сколько хотела. При этом войны выигрывались, бунты подавлялись, дворянство богатело, поэты писали стихи, дипломаты – доклады о победах, народ страдал, как ему положено, новая аристократия, возникавшая по милости царской вагины, хоть воровала, но свое дело знала. Удачница Екатерина тоже имеет, как и Петр, свои «тени», исторических неудачников, которых по христианству жалеет определенная часть национального самосознания, – это ее муж Петр III и упоминавшаяся уже княжна Тараканова. Но все-таки желающих возвеличить эти тени так, как то случилось с царевичем Алексеем, не сыскалось. Не нашлось и скульптора, который бы посмел подшутить над императрицей, как Шемякин пошутил с Петром, – и «матушка с детками» у Александринского театра (скульптор М. Микешин) остается и непревзойденной, и не оспоренной. Глубокая русская тоска по настоящей «матушке», охотно мирволящей всяческим человечьим слабостям, может статься, нашла свое выражение и в том милом факте, что сад, прилегающий к микешинской скульптуре, известен под именем «Катькин садик» и в нем издревле собираются гомосексуалисты.
Поскольку в поп-культуре Алла Пугачева занимает приблизительно то же место, что Екатерина Великая в истории своего времени, их творческая встреча знаменовала бы собой воссоединение двух половинок, на которые был разбит образ единой, неделимой, тотальной русской царицы: верхнюю и нижнюю. Спущенная «сверху» императрица и выбранная народом «снизу» певица при соединении могли бы образовать миф сокрушительной силы. Вряд ли случайно к тому же, что народная певица носит фамилию бунтаря, самозваного Петра III, главного супостата империи. Что-то здесь есть от возможного, призрачного и фантастического, замирения «матушки» с ее народным врагом…
Вытеснение имперской идеи в массовую культуру само по себе только часть общего процесса распада действительности. Власть всегда стремилась обставить себя зрелищами, подчеркивающими ее божественную природу, – и карнавал «Торжествующая Минерва» ставил ритуальный знак равенства между земной царицей и ее небесной покровительницей. Но только во второй половине XX века Зрелище стало властью, а исполнители Зрелищ – властителями. В этом есть нечто от сказки про человека, потерявшего свою тень, которая преблагополучно зажила своей судьбой. Скоморохи, шуты, плясуны, фигляры, почитавшие за величайшую милость кормиться возле королевского стола, жалкие и презренные твари, которых не следовало и хоронить-то рядом с христианами, становятся великими властителями грез и судеб, царят в сердцах, купаются в роскоши, повелевают умами! Послесмертные культурные судьбы императоров зависят от того, кто из актеров изволит их сыграть!
Подоспела очередь императора Павла I. Это большой, видный неудачник, сравнимый по масштабу своей несчастливости только с Дмитрием Самозванцем, царевичем Алексеем и младенцем Иоанном Антоновичем. В исторической литературе у Павла Петровича давно сложилась репутация человека, который чего-то хорошего хотел, но трагически ничего не смог. Историки, особенно из евреев, почему-то питают тихую слабость к подобным персонажам. Вот Николай I, у которого получилось почти все, что он замышлял, никакого достойного киновоплощения не удостоился. Разве что в картине Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья» его сыграл – довольно карикатурно – Василий Ливанов, еще не доросший до высот Шерлока Холмса. Павла на театре сыграл в восьмидесятых годах Олег Борисов, в русле общего, свойственного тому времени, болезненно критического взгляда на власть. Но главное еще впереди – прилежный историософ, кинорежиссер Виталий Мельников собирается снимать картину о Павле Петровиче. Павел получает шанс на зрительскую симпатию – впервые за много лет фанатского обожания отдельных историков.
И отчего бы и нет? – скажем мы сами себе. Ведь прогрессивность или реакционность того или иного исторического индивидуума не имеет никакого значения в империи зрелищ – важна яркость лица и перипетий судьбы, а тут с петербургскими императорами тягаться трудно. Даже самый скучный и бесцветный из них – Александр III – и тот сумел чем-то разбередить душу Н.С. Михалкова и оказаться в героях фильма «Сибирский цирюльник». Будем надеяться, что перед тем, как навсегда закончиться, русская история будет разыграна-проиграна-переиграна сотни раз, императоры сумеют нам надоесть хуже горькой редьки и мы окончательно и бесповоротно разлюбим «царственную пышность».
Апрель 1999
Нежная кровь
Фильм Глеба Панфилова «Романовы: венценосная семья»
Фильмы Глеба Панфилова всегда отличались качеством добротной и умелой работы, будто крепкие ладные дома, срубленные толковым плотником, дома, в которых людям (и зрителям, и актерам) интересно и удобно жить. Но, конечно, никогда еще режиссер не возводил такого трудного дома, как «Романовы: венценосная семья». Этот скорбный фильм, чье воплощение заняло у Панфилова и его трудового коллектива около десяти лет жизни, создан не для легкомысленного «понравилось – не понравилось». Он сделан для общенационального просмотра, после которого возможны, да и неизбежны любые битвы мнений. Однако смотреть мыслящим россиянам это надобно. Что делать! Счастливцы взмывают к далеким мирам хранить порядок и законность в Галактике, выигрывают звездные войны и лихо предотвращают – на раз! – конец света. А нам бы со своей историей разобраться, своих мертвецов похоронить да оплакать…
Картина Панфилова обладает достоинством внятного и подробного повествования; канва событий, портретное сходство и обстоятельства быта реконструированы, а такая вещь, как, например, царский поезд, даже изумляет богатством деталей. Как жила и как умирала семья последнего русского царя, зритель узнает в достаточной мере полно и точно. Но я оказалась в числе сторонников фильма не поэтому. Судьба Николая Романова для меня – звено в цепи русской трагедии, и этот фильм я прочла главным образом как художественное воплощение трагедии культуры.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: