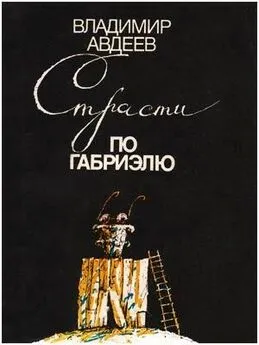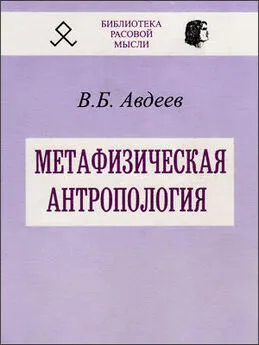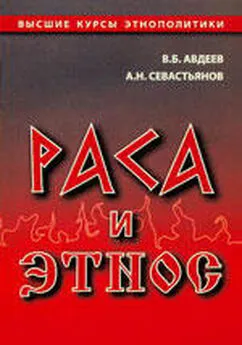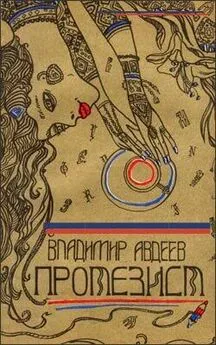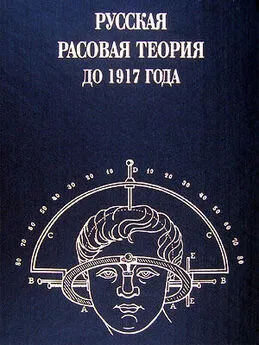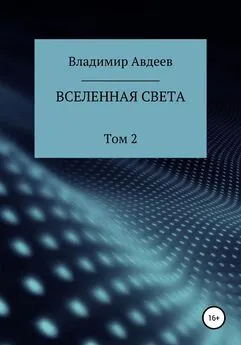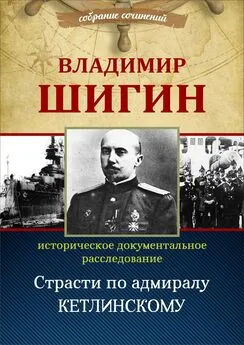Владимир Авдеев - СТРАСТИ ПО ГАБРИЭЛЮ
- Название:СТРАСТИ ПО ГАБРИЭЛЮ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Столица
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:5-7055-1395-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Авдеев - СТРАСТИ ПО ГАБРИЭЛЮ краткое содержание
Эта книга — первый литературный опыт молодого автора. Оригинальна тем, что нетрадиционно трактуется тема «страстей», по Евангелию понимаемых как история страданий и смерти. Это произведение — авторская концепция «мультипликационного» восприятия мира сквозь розовые очки, защита души от чувств и боли. Философская основа романа претерпевает сильное влияние Ф. Ницше, А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора. Для широкого круга читателей.
СТРАСТИ ПО ГАБРИЭЛЮ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дальше.
Дальше я уже не был пришельцем в этом пространстве: я ощущал себя обетованной частью его. И то, что открылось мне, не поддавалось ни словесному, ни зримому образу, настолько нищими и кустарными оказывались привычные инструментарии людского сознания. Это выкристаллизовалось отдельной самостью и прошло сквозь меня, наделив каждую частицу меня новым, дотоле неведомым свойством.
В этот день Человек играл. Играл, впрочем, как и каждый день, хотя ему, наверно, было обременительно быть слишком уж молодым, да и не было особой необходимости быть чрезвычайно старым. И что самое любопытное — никто при всем своем тщании не сумел бы сыскать вещных следов этой игры. Человек унаследовал эту игру от себя, точнее, от того своего празднолюбивого состояния, которое по причине сказочных недомолвок самому себе Он называл Детством. На самом же деле то был всего лишь заурядный переходный этап, характеризующий перебазирование из одной оболочки в иную. Так, лелеясь игрой, Он умирал и нарождался вновь, не переставая, однако, при этом быть Человеком. Ему чудилось, что, нанизывая на Себя прошедшее время, в нем умирает нечто достославно чудесное, иррациональное и восторженно наивное, и что с каждым новым мгновением его прошлое становится неравным самому себе, местами отмирая, местами видоизменяясь. Окружающая его удобовпечатлительная жизнь, как ему мнилось все время, стремилась к чему-то новому, но тем менее пребывала в неизменности. Так продолжалось очень долго, и Человек, изрядно приобвыкнув, успел приспособиться. Точнее, ему и не приходилось приспосабливаться, ибо существо окружавшей его действительности вытекало из самого сокровенного средостения его собственного существа.
По деспот нетерпимости к однообразию умудрился взять верх, и Человек добился, наконец, того, чего так страстно желал во всех своих грезах: мир, сотканный из мириад калейдоскопических светопредставлений, будто громоздкий валун, утеряв невозмущаемую гордыню равновесия на вершине, предался вдруг суетному низкопоклонству, ища каменного упокоения осклизлых нечестивых низинах. Гигантский валун, сплотив все свое первоединство, нёсся по склону, обезвреживая глупорожденной болью все раздавливаемое на своем пути, и Человек узрел, наконец, во что же обратился некогда константный, сонноколеблющийся в своей беспримесной идиллии мир. Обильные взнуздывания к переменам сотворили феерическую какофонию. Отныне действительность мира была более колоритна и менее надмирна. Человек всегда играл в детстве, сколько он себя помнил. Игра была необходима ему как воздух, возможно, и более того. Человек, будучи ребенком, всегда играл во взрослых, он играл в ту жизнь, которая должна была подстерегать его и которой он страстно желал. Он играл в жизнь для того, чтобы постепенно, играя в нее, научиться ей. Таким образом, игра постепенно переходила в генеральную репетицию, ну а та не замедляла постепенно преображаться в красочно декорированное представление, на которое по очереди впускали зрителей, и представление это всегда было премьерой. Жизнь сама научала себе вступающего в нее Человека. Так, мальчик всегда играл в воина, дабы затем стать защитником очага; девочка всегда играла мать, дабы затем сделаться таковою реально; и, для того чтобы достодолжно приспособиться к тому или иному уровню сложности жизни, потребен был тот или иной стаж игры определенной степени сложности. Человек гнал прямоходящее время вперед, с трудом поспевая за ним, и уровень сложности жизни поднимался все выше и выше. И вслед за ним, будто привязанные, тянулись и игры. Непомерно усложняясь, они возрастали числом и отнимали все больше времени, настигая зрелые годы, а порою и старость, причудливо трансформируясь в хобби или призвания, неустанно пожирая силы, воображение, порабощая все лоно мудрости одной лишь всемогущей игрой. Игра есть нестабильность, отражающая переходный процесс одной жизни к другой через детство. Игра — это полноправный символ детства. Человек всегда сам подразумевал, что взрослое его состояние является установившимся основным режимом его жизни и потому единственно правильным. От нестабильности детства Человек перебирался к началам стабилизированного участка жизни — сплоченной взрослости, которой ошибочно приписывались все триумфы и шабаши пороков, щедроты и лихоимные стяжательства, защиты и гадкие посягновения.
Но жизнь, подстрекаемая к баснословному изменению, наконец, поддалась, но не всюду, а лишь фрагментарно нарушая свое правильнотечение, образуя всеохватывающие ножницы между непомерно ранней искушенностью в одних вопросах и непростительной, контрастно опровергающей все оптимистические чаяния человека, наивной несмышленостью в иных. Поле игры стало иллюзионистически растягиваться, прорываться аллергентными зияниями, сбираться в двурушнические складки, все более теряя эстетическую безболезненную созерцабельность. Не было больше привычного членения на саван зла и плащаницу добра; тьмы разнокожих иноплеменных начал рядились под эти две простенькие маски, кромсая с переменным успехом по-прежнему восприимчивые страстотерпеливые, заплатанные крохами нехитрых утех, разнузданные души. Человек перестал различать границы игры и жизни, игра перестала быть сказочной, странноприимной пропедевтикой жизни. И чем убийственней становились поступки взрослого Человека, тем проще и безгорестней становились шутливые, насерьезненные мишурным негодованием волеизъявления младенца. Не разучившись играть и не приобретя истинного вкуса к зрелой установившейся жизни, Человек продолжал играть окончившиеся по контракту представления, скупо надеясь пожать сосредоточенные россыпи недослушанных оваций. Он играл и играл. Его сапожок с нордическим упрямством заставлял гибнуть десятки оловянных когорт, втирая их оловянную кровь и драгоценный рисунчатый ковер. Проходило немногим более одного-двух десятков лет, и детская комната превращалась во всамделишное поле узаконенных смертоубийств. Но сомлевший от осязания бойни глаз некогда мелкого беса крепчал, распираемый блеском пожарищ, играющих красками в огнетерпеливом лоне повадливо всеядного зрачка. Голос, срываясь рваным фальцетом, разил острее клинка, ибо Человек, смекнув, как убивать, не разобрался еще в том, что значит отнятие не им даденной жизни. В его глазах не было крови и предсмертного храпа кровоточащих лоскутьев искромсанных тел. В его глазах ровно и методично падали негнущиеся оловянные истуканы. Человек гнал свою картинную страсть, то седлая ее, то рабствуя ей. Он играл в похоть, называя это тактом высшей любви. Он играл в работу, семью, долг, в слова и цифры. Он амбициозно играл в государственность, так остро воспринимая мифическое бумажное изменение невидимых границ, как будто это было его собственное тело, вдруг усекаемое. Он возвеселялся всякий раз, когда игра натягивалась на жизнь. Вскоре, однако, ее каркас начал ветшать. Но Человек не замечал этого, безраздельно находясь во власти игры.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: