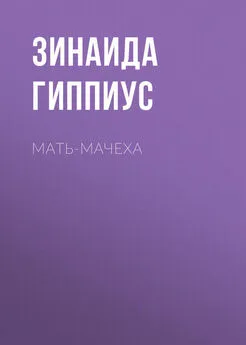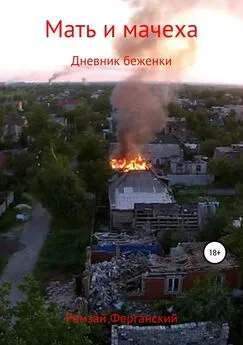Владимир Солоухин - Мать-мачеха
- Название:Мать-мачеха
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель,
- Год:1966
- Город:М.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Солоухин - Мать-мачеха краткое содержание
Герой нового романа Владимира Солоухина «Мать-мачеха» Дмитрий Золушкин — наш современник. Детство его кончилось в годы Великой Отечественной войны. Пора возмужания, поиски своего места в жизни совпали с днями победы.
Скромный деревенский паренек чувствует в себе пробуждение поэтического дарования. Закончив службу в армии, он поступает в один из творческих институтов Москвы. Он хочет быть поэтом. Но избранный им путь нелегок.
Жизнь ставит молодого героя перед необходимостью решать сложные проблемы. Он переживает большую душевную травму.
В романе содержатся интересные раздумья автора о творческом процессе, об искусстве поэзии, о месте поэта в жизни народа.
Мать-мачеха - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но тут она спохватилась вдруг: что это я заговорила точно мамиными словами? Неужели и правда яблоко от яблони недалеко падает? Или копилось в душе капелька по капельке мамино повседневное воспитание? Или зря они с Митей давным-давно взяли на вооружение знаменитый чеховский принцип самовоспитания о выдавливании капелек рабской крови?
Стены? Но разве с самого детства она не рвалась из них куда бы то ни было, лишь бы куда-нибудь: к Зое, на улицу, в Ленинку, в кино. С деньгами будет трудно. А как же все? Как же начинают все остальные? Да и Митя… Митя сильный человек, не может быть, чтобы они вовсе уж не справились, вовсе уж оплошали… У Гели опять дрогнуло и потеплело возле сердца, потому что «оплошали» было Митино словечко. Сначала он говорил «зайцей» вместо «зайцев» и «пальцей» вместо «пальцев». Горячился, спорил, доказывал, что так и нужно говорить, потому что от народа. Ха-ха! Пальцей, зайцей, и вдруг — мой жених. Почти муж. Пятьдесят четыре дня. Боже мой! А в коридоре послышались уж быстрые, энергичные, как бы даже вечно спорящие с кем-то или с чем-то, как бы даже заранее против всего протестующие шаги Елизаветы Захаровны.
Она вошла с мороза, бодрая, зарумянившаяся, яркая, молодая для своих сорока с небольшим лет, тотчас заходила по комнате за тем, за этим, тотчас заходил по комнате ветер от ее движения. Она ставила на стол чашки. На кухне в это время закипала вода для кофе. В портфеле у нее оказалось три. сорта восточной халвы и бутылка малаги. Почему-то она любила малагу — это искусственное в условиях Москвы, пахнущее жженой пробкой, приторное вино.
— Геля, иди пить кофе. У меня сегодня удачный день. Выпьем по рюмочке малаги.
— День еще не кончился, — глухо, чужим голосом (значит, на все уж и до конца решившись) произнесла Геля.
Елизавете Захаровне непривычным показался тон дочери. В глухоте, в напряженном дрожании тембра сразу почувствовала недоброе. Может быть, потому сразу, что, наверно, ждала этого разговора, ждала и держала порох сухим.
— А что такое?
— Мы с Митей все решили. Я выхожу за него замуж. Через пятьдесят четыре дня я буду его женой, — Почувствовав, что мгновение, что следующее мгновение, может быть, решит все, рванулась было к матери, чтобы прильнуть, припасть, и уже, как в провидении, увидела себя рыдающей у матери на плече, и будто бы мать гладит ее, и тоже плачет, и обе они умиротворяются в слезах, и все в мире оказывается легко и просто. Либо ждала уже сразу крика и топанья, тогда бы и в ответ можно было доказывать, волнуясь и горячась.
Елизавета Захаровна захохотала.
Правда, в первом уже, так сказать, аккорде, в первой руладе ее хохота послышалась некоторая трещинка, некоторая истерическая, что ли, нотка. Но все же хохот был наименее ожидаемой реакцией. Вот отчего Геля не пробежала и половины расстояния до матери, остановилась — и хорошо: плед запутался в ногах, еще бы шаг — и могла бы упасть на какой-нибудь острый угол.
Елизавета Захаровна хохотала. Можно было бы тоже захохотать, и все бы, глядишь, сошло на шутку, рассыпалось в этом хохоте. Тогда бы и кофе с малагой и все честь по чести. Но Геля испуганно смотрела на мать. Через секунду она, вероятно, закричала бы и выскочила из комнаты, но и этого не; успела сделать. Елизавета Захаровна вытерла глаза полотенцем — висело у нее на руке, шла с ним на кухню, чтобы прихватить горячий кофейник. Все-таки, значит, растерялась Елизавета Захаровна, если и за полминуты хохота не нашла еще единственно нужных и точных в этой последней, решительной схватке слов и сказала самое банальное и наружное:
— Уморила.
— Мне, мама, не смешно. Я думала хоть раз в жизни поговорить по-хорошему и серьезно.
— Ах, так. Значит, всю жизнь было не по-хорошему и не всерьез? Ну, давай, давай, я согласна. Очевидно, ты его любишь?
— Люблю.
— А меня, свою мать, ты любишь?
— Мама! Ну, как ты можешь? Это же само собой. Об этом не спрашивают.
— Нет, если раз в жизни-то, могу я спросить? Так как?
— Разве есть человек… или даже неразумная тварь, которая не любила бы матери? Давшей жизнь…
— Кого же ты любишь больше?
— Мама, это разные вещи.
— Нет, допустим, один из нас должен сегодня вечером погибнуть… Или нет, допустим, оба мы тонем в реке. К кому бы ты бросилась в первую очередь? У тебя в руках веревка. Одна. Дело решают секунды. Кому бы ты бросила веревку? — Почувствовав, что напала на верную струну, Елизавета Захаровна азартно возвысила голос. — Отвечай теперь раз в жизни по-хорошему и всерьез! Кому бы ты бросила веревку?
— Я думаю, если бы вы оказались в одной реке, Митя спас бы тебя и… — Но шутки явно не получилось. Атмосфера была не та, чтобы в ней могла вспыхнуть и осветить лица добрым светом немудреная шутка.
— Ладно, я допускаю, что ты любишь нас одинаково сильно, допускаю. Именно поэтому тебе трудно сделать выбор с веревкой. Одинаково. Хорошо. Теперь скажи, перед кем у тебя больше (при равной любви) обыкновенного жизненного долга? Я — мать. Я, вскормившая и вспоившая тебя, я, смеявшаяся каждым твоим смехом, улыбавшаяся каждой твоей улыбкой, плакавшая каждой твоей слезой, болевшая каждой твоей болезнью и болью, я, одевавшая и обувавшая тебя, я, научившая тебя языкам и музыке, я, поседевшая за четыре ночи, когда ты была в дифтерийном бреду… Дочь моя! Неужели чужой, посторонний человек… эта рыжая бестия… милая, оглянись! Должны появиться дети. Ты только прости меня за грубость, но, если породистая арабская лошадь и мохноногий, похожий на слона битюг… извини, но получится то, что называют ублюдками. И потом, если говорить по-хорошему, и всерьез, и один раз в жизни, ты должна, ты обязана, ты не имеешь права… Ты обязана помнить и знать, что ради тебя, ради тебя одной я, женщина в силе и, говорят, не последняя уродка, живу как монахиня, как затворница. Ты видела в своем доме хоть одного мужчину за все эти годы? Думаешь, это легко? А ради кого? Отвечай, ты видела хоть одного мужчину в своем доме за эти годы?
— Я видела здесь отца.
Елизавета Захаровна схватилась за сердце и, обмякнув, сползла сначала на стул, а потом на пол.
Геля бросилась сначала к матери, потом на кухню за водой. Успела крикнуть соседке: «С мамой плохо, сердце! Вызовите, пожалуйста, неотложку!» Опять вбежала в комнату, кое-как уложила больную на диван, дала ей под язык синевато-белую лепешку валидола, опустилась перед ее липом на колени и все говорила, говорила, гладя ей волосы около виска, а в другой руке держа увлажнившуюся тяжелую руку.
— Мама, прости, не хотела. Я больше не буду. Мама, родненькая. Я тебя люблю. Скажи что-нибудь, не молчи. Милая, единственная!
— Мне плохо, дочка, я не знаю… Последнее слово мое: я или он.
— Да, мама, да. Ты, родная, единственная, ты. Только открой глаза, только не молчи. Ты, ты, ты!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: