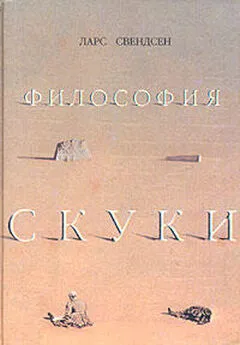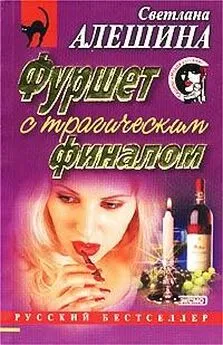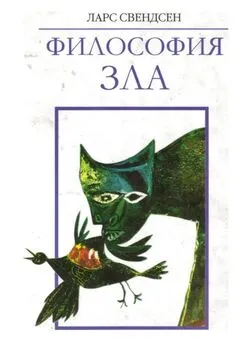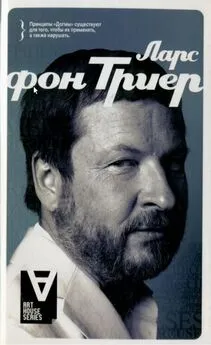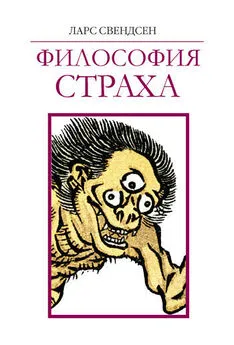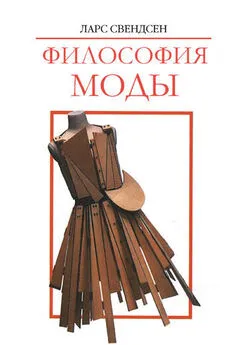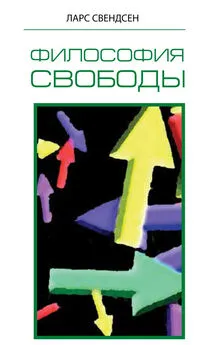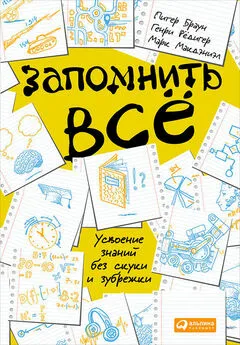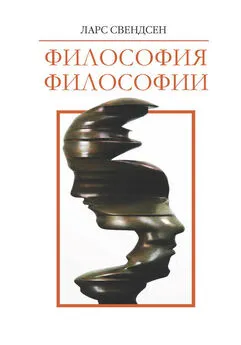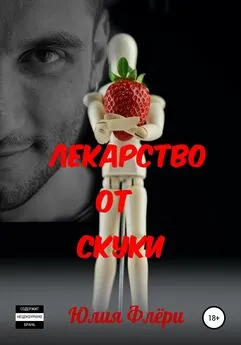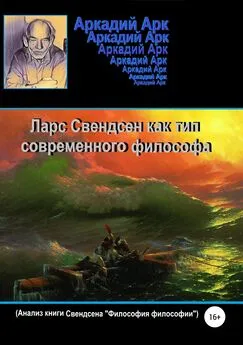Ларс Свендсен - Философия скуки
- Название:Философия скуки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс-Традиция
- Год:2003
- Город:москва
- ISBN:5-89826-161-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ларс Свендсен - Философия скуки краткое содержание
Что такое скука, когда она возникает, что у нее общего с меланхолией и депрессией, можно ли ее преодолеть волевым актом или превратить в источник вдохновения? На эти и многие другие вопросы пытается ответить норвежский философ Ларе Свендсен, в своем трактате "Философия скуки". По мнению автора, столь многосторонний феномен, как скука, изучен мало, хотя скука - состояние, в котором мы часто пребываем, но редко о нем размышляем. Это своего рода фундаментальный экзистенциальный опыт. В книге "Философия скуки" цитируются тексты из разных источников - философских исследований, произведений художественной литературы, из трактатов по психологии, теологии и социологии.
Философия скуки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Это вызывает невероятную скуку и тоску, потому что «я» не в состоянии заполнить себя самим собой, и одновременно «я» стремится обрести содержание. В «Феноменологии духа» Гегель отмечает «излишества и скуку, которые характерны для существующего порядка», хотя все это похоже на симптомы нестабильности накануне ожидаемой эпохи величия. Эта эпоха величия, скорее всего, никогда не наступит, и, скорее всего, мы во многом обретаем гегелевское status quo.
Гегель называл субъективизм самой популярной болезнью своей эпохи! Этот субъективизм тесно связан с коперниковским поворотом Канта в философии. Смерть Бога не нашла отражения у Ницше. По Канту, Бог умер, и потому Он больше не может гарантировать объективности познания и порядка универсума. Да, собственно, никто и не требовал подобных гарантий. Человек должен сам обрести равновесие.
Самая, пожалуй, характерная черта модернизма — это то, что человек взял на себя роль, которую прежде играл Бог. Свойства, которыми прежде наделялись явления или предметы, а в средневековье были переадресованы к Богу, уже не столь важны: отныне субъект конституирует мир. Речь идет, конечно, прежде всего о Канте. Возможно, это и покажется невероятным, но осмелюсь предположить: концепция Канта — это секуляризованная версия средневековой идеи Бога. Проблема субъекта возникает со всей очевидностью, нужно заполнить ту нишу, которая возникла в связи с отсутствием Бога.
Примечательно также отметить романтические реинвестиции в символы. Там, где символ наделен непосредственной смыслообразующей функцией, своего рода реальностью в форме чувственного присутствия, в аллегории возникает пропасть между выражением и значением. Потому что возникновение символа не означает разницы между опытом и его репрезентацией, в то время как аллегория отражает эту разницу.
Но во что может превратиться аллегория после того, как Бог исчез? Она может вновь наделить мир смыслом, извлечь опыт из реальности, стать случайным пристанищем для романтизма и повернуть обратно к символизму. Впрочем, подобное развитие событий уже не кажется столь удачным — в то время как предромантический символизм был коллективным, романтический символизм стал приватным.
Для символистов переживания мира становятся их собственными переживаниями, для современных же романтиков-символистов сам объект становится относительно незначительным.
В трактате «Основные черты современной эпохи» Иоганн Готтлиб Фихте изложил концепцию философии истории и составил весьма схематичный план с пятью основными эпохами: вначале человек находится в состоянии невинности, затем проходит через стадию падения и в конце концов попадает в эпоху пользы.
На самом деле в этой классификации нет ничего особенно оригинального или интересного, но Фихте использует подобный сценарий для критики своего времени. С его точки зрения, современная ему эпоха впала в тотальную греховность, а идея пользы оказалась в глубочайшем кризисе!. Причина кризиса кроется в индивидуализме. Субъективная свобода отделилась от принципа всеобщей пользы, и полученный в результате «голый индивидуализм» находит свое выражение в гедонизме и материализме. Наука в определенный период отмечена формализмом. Это пустая форма без какой-либо определенной идеи.
В подобные эпохи отмечается колоссальная пустота, которая «проявляется как бесконечная, непреодолимая и всегда возвращающаяся скука». Чтобы противостоять этой скуке, человек предается разного рода развлечениям и таким образом пытается справиться с ней или впадает в мистицизм. Эту ситуацию можно, согласно Фихте, преодолеть только тогда, когда человек отвергнет индивидуализм и вернется к идее всеобщей пользы. Современному человеку, конечно, рецепт Фихте покажется мало убедительным, по той простой причине, что человек уже не знает, какой именно должна быть всеобщая польза.
В лекциях, написанных через двадцать лет после того, как Кант опубликовал свое эссе «Что такое просвещение?», Фихте ставит диагноз современности, который ныне широко известен. Фихте подчеркивает, что современность сама по себе скучна. Парадокс заключается в том, что современный индивидуализм, отвергнутый Фихте, находит свое отчетливое выражение у романтиков, ответственных за ошибочное толкование идей Фихте, сформулированных им в «Основах общего наукоучения». Киркегор анализирует этот парадокс в произведении «О понятии иронии».
Принцип Фихте подразумевает, что именно субъективизм, что именно «я» имеет конститутивную ценность, что «я» — единое и всемогущее, и этот принцип Шлегелъ и Тик взяли на вооружение, и сквозь эту призму они рассматривали мир. Таким образом, возникла двойная сложность. Во-первых, человек перепутал эмпирическое и конечное «я» с вечным «я». То есть дух подменяет метафизическую реальность исторической реальностью. Таким образом, человек опирается на несовершенную метафизическую позицию, а не на реальную действительность.
Связь между современным индивидуализмом и скукой отчетливо проявляется в романтической литературе эпохи Фихте. Например, мало известная «История господина Вильяма Ловелла» Людвига Тика, написанная в 1795–1796 годы, возможно, и есть классический роман о скуке \. Этот эпистолярный роман мало кто читал, прежде всего потому, что он ужасающе скучен. Скука — довольно сложная художественная тема, и большинство художественно-литературных произведений на тему скуки обычно так же скучны, как и сама тема.
Поскольку скука есть ничто, то можно сказать, что ее как тему почти невозможно обозначить позитивно. Ведь каким образом можно, например, представить отсутствие? Вполне возможно, что впервые это удалось Сэмюэлю Беккету, и я вернусь к Беккету немного позже.
И все-таки-тема скуки впервые возникает в «Вильяме Ловелле», и она пронизывает весь роман. Действие романа настолько плоское и неинтересное, что мне не хотелось бы пересказывать его, но я сфокусирую свое внимание на «философии», сформулированной в нем.
Вильям вначале предстает как юный английский мечтатель, которого отец отправляет в путешествие на континент. Фабула путешествия переплетается с темой развития главного героя как личности. Он постоянно погружен в себя и сконцентрирован на себе до предела. Ему это состояние кажется свободой, но, по сути, это обнищание. «Вильям Ловелл» — не столько роман развития, сколько роман отклонения. Все, что стабильно, вырывается на свободу, и погоня за полнотой жизни в конце концов приводит к полной деградации.
В «Вильяме Ловелле» существование — это вечный хоровод всеохватывающей скуки: «…я нахожусь в безрадостном мире, который, как часы, где боль непрерывно описывает один и тот же самый однообразный круг». Вильям претендует на то, чтобы мир удовлетворял его, чтобы он был интересным, но он не находит ничего интересного, и ежедневно жалуется, что смертельно скучает. Мир как таковой подобен огромной тюрьме.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: