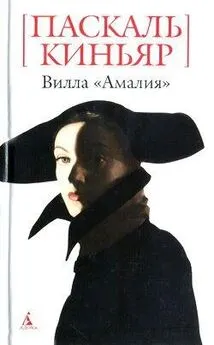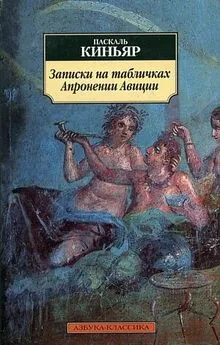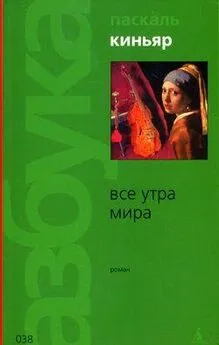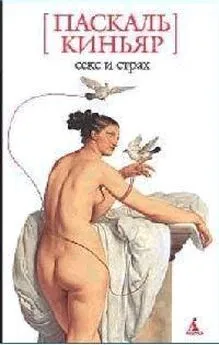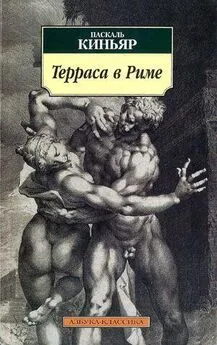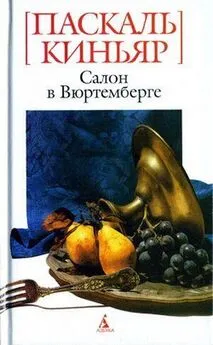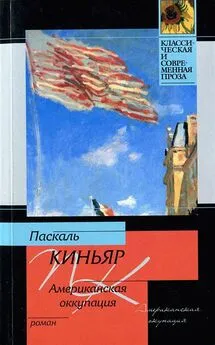Паскаль Киньяр - Вилла «Амалия»
- Название:Вилла «Амалия»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Азбука-классика
- Год:2007
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-91181-265-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Паскаль Киньяр - Вилла «Амалия» краткое содержание
Паскаль Киньяр – один из крупнейших современных писателей, лауреат Гонкуровской премии (2002), блистательный стилист, человек, обладающий колоссальной эрудицией, знаток античной культуры, а также музыки эпохи барокко.
После череды внушительных томов изысканной авторской эссеистики появление «Виллы „Амалия"», первого за последние семь лет романа Паскаля Киньяра, было радостно встречено французскими критиками. Эта книга сразу привлекла к себе читательское внимание, обогнав в продажах С. Кинга и М. Уэльбека. В центре повествования – судьба удивительной женщины-композитора, созданного ею эзотерического музыкального мира, прощание с красотой мира, очарование одиноких прогулок на заветном острове, освобождение от суеты и соблазнов во имя чистого творчества.
Вилла «Амалия» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дожив до пятидесяти лет, он все еще был способен дуться по три дня, как малое дитя. В таких случаях он глядел куда-то в сторону, обиженно кривил губы и хмурился.
Говорят, что в симбиозе двух организмов взаимно развиваются помощь и питающие вещества.
Помощь и бдительность – в первую очередь.
Пища – во вторую (хотя Жорж скорее поставил бы ее во главу угла).
В симбиозе каждый неизбежно эксплуатирует другого в строгом соответствии с тем, что сам ему дает. И если один из них нарушает этот закон и пытается одержать верх над своим партнером, он его душит. А если тот лишает его пищи, он гибнет.
Симбиоз даже не означает равновесия. Это крайне неустойчивый конфликт – такой же непостоянный, как облака в небе бургундской провинции.
И только поиск равенства – недостижимого, невозможного, эфемерного, без конца исчезающего и возникающего – возрождает этот союз, вдыхает в него жизнь.
Их высказанные мысли начали встречаться на полпути.
Потом еще раньше – на уровне интонации. Потом и до нее: едва они открывали рот, едва вздрагивали их губы. Едва из губ вырывалось облачко зимнего дыхания. Они понимали друг друга по запаху. По страхам. По вздохам.
Их существования слились так тесно, что не было нужды разговаривать.
Она была уже немолода, и жизнь уходила в ее теле на все большую и большую глубину. Лицо, закутанное даже в десять шалей, светилось внутренним огнем.
Жорж говорил (как будто произнесенное вслух делало ситуацию яснее):
– Что-то непередаваемое было передано этой женщине и теперь озаряет мою жизнь.
Я вспоминаю, как Анна говорила Джулии (в те времена, когда она жила вместе с ней и Магдаленой на снятой ею длинной вилле над морем):
– В детские годы каждая часть тела, которое ты любишь, источает сияние. И солнечный свет пока еще тут ни при чем. Это сияние исходит из детского сердца.
Глава V
Милан.
И снова она распахнула застекленные створки лифта из бразильского дерева. Дверь в квартиру была приоткрыта. Она толкнула ее. Заперла за собой. Постояла в прихожей, робея, как бывало в отрочестве.
Гостиная была пуста, крышка рояля опущена, портьеры задернуты.
Она вышла из комнаты.
Она разыскала его в столовой; дряхлый старик сидел, ничем не занятый, за большим черным столом. Он обернулся и посмотрел на нее. Его глаза испугали ее. Он выглядел безумным. Потом он ее узнал, и его древнее лицо озарила радость. Он попытался встать.
– Не двигайтесь! Сидите! – крикнула она, бросившись к нему.
Подбежав, она наклонилась, взяла его за руки.
Его губы и голос дрожали.
– Анна, милая моя Анна, – сказал он ей по-английски.
Напрягшись, он откашлялся, чтобы прочистить горло, заговорить тем, прежним голосом.
– Милая моя Анна, вы доставили мне огромное счастье, вздумав навестить своего учителя.
Она осмотрелась. Комната выглядела по-прежнему – низкая, длинная, плохо освещенная, только запустение стало заметнее, чем пятьдесят лет назад. В те годы ее редко сюда допускали. Темные потолочные балки все так же тяжело нависали над головой. Пустой камин; сверху, на стене, черное распятие. И больше нигде никаких изображений. Все та же тишина. Все та же жестокость.
Стояла пасмурная, но очень теплая погода. Выйдя из самолета, она заметила в десятке метров от себя пастуха в желтом бубу; он стоял, опираясь на посох, и безразлично смотрел на нее.
Три или четыре козы щипали серую траву чуть поодаль, на взлетной полосе.
Она отдала дорожную сумку шоферу, который подбежал к ней мелкой рысцой. Нескончаемо долго, много часов они ехали через бидонвили. Наконец она очутилась в роскошной гостиной. Чернокожий настройщик еще трудился над старым роялем «Pleyel» XIX века.
Австралия.
Ее память, не очень долговременная, становилась необычайно цепкой в конкретные моменты.
Простой пример: стоило ей выпить вина, как она все забывала.
И по вечерам все забывала.
Но когда она исполняла, когда записывала музыку, она переставала пить. Ставила с ног на голову обычное расписание. С приходом ночи оставалась в своей комнате. Читала партитуры. Все равно какие – оркестровые произведения, квартеты, трио, сочинения для органа, Lieder. [20]Мгновенно запоминала их. Откладывала в сторону.
Сидя с открытыми глазами перед голой стеной (или стеной, с которой она убирала картины, снимки, литографии) гостиничного номера или артистической уборной, она созерцала невидимую панораму в пустоте.
Потом, все такая же собранная, очень прямая, осторожной походкой – чтобы не спугнуть свое видение, – выходила в концертный зал или в студию, шла к инструментам.
Она записывала свои сочинения на двух роялях «Steinway», совершенно разных – день и ночь! – но с прекрасным, очень глубоким звуком, с очень глубокими клавишами.
Садилась, поднимала руки, долго выжидала в тишине. И внезапно начинала играть.
Вся работа по концентрации творилась за сценой. Техники уже были готовы, ждали. Она входила в студию. И всегда делала запись с первого раза.
В Сиднее она ночевала в квартире Уоррена. Она объясняла Уоррену:
– Похоже, что сон диктует поведение тела самому древнему из наших трех мозговых центров. Ночью правая рука теряет свою виртуозность. А левая, наоборот, становится необычайно ловкой. Пианисту – если он композитор – выгоднее всего записываться в те часы, когда людям полагается спать. Его левая рука сможет творить настоящие чудеса. И в то же время пальцы обычно доминирующей правой утрачивают все свое мастерство.
В другой раз она сказала японскому журналисту, бравшему у нее интервью:
– Художник Клее [21]заставлял себя писать в дневное время левой рукой – специально, чтобы его живопись выглядела по-детски неловкой, неожиданной. Вот и я играю в то время, когда царит моя левая рука. В такие часы партитура – всего лишь сон, греза; она мелькает передо мной, следуя ритму, который я бессильна обуздать.
Перед каждым концертом ей приходилось обрекать себя на аскезу, которая мало-помалу делала ее жизнь невыносимой. Тогда она стала подвергать себя этой аскезе лишь на время звукозаписей, которые планировала таким образом, чтобы впрягаться в работу не чаще одного раза в два года. Перед этим, в течение многих месяцев, она отказывалась от любых вечерних приглашений. Ложилась спать ровно в десять часов, вставала ровно в четыре утра, не позволяла себе прикорнуть среди дня. Таким способом она, по ее выражению, «эмансипировала левую руку».
Уоррен сказал ей:
– Наши аборигены называют это так: войти в Реку Сна.
Она достала ключ. Прошла в студию звукозаписи. Зал был пуст. В нем пахло табачным дымом. Выключатели у двери не работали. Вероятно, уходя, техники отключили счетчик. Тогда она стала осторожно пробираться в темноте среди проводов, кабелей, трансформаторов, валявшихся на полу. В глубине помещения, на эстраде, у ножки второго рояля, отыскала свою сумку (или, вернее, большую черную клеенчатую торбу). Открыла ее. Вынула маленький предмет – «талисман Лены». Обыкновенный гладкий черный камешек. Она застегнула сумку, повесила ее на плечо, поднялась по лестнице. И уехала. С облегченной душой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: