Сергей Кравченко - Крестный путь
- Название:Крестный путь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Кравченко - Крестный путь краткое содержание
История русского православия — история духовных шевелений в нашем народе, история подавления этих шевелений, история интеллектуальных исканий и парадоксов. Это Крестный Путь, которым шел народ в нравственном, идеальном направлении. Это — тысячелетняя мистерия русского духа, гонимого и страдающего. Для ее описании я не придумываю героев и события. И я соглашаюсь на официальную хронологию, — в основу работы положены клерикальные летописные материалы. Главный источник — монументальный труд митрополита Московского и Коломенского Макария «История Русской Церкви» (1845). Эта многотомная хроника — уникальный по своей полноте материал, собранный со всей возможной скрупулезностью. Воистину — великий подвиг святого отца. Работа охватывает период с древнейших времен до конца царствования Алексея Михайловича. Видимо, писать о безобразиях его сына Петруши у митрополита здоровья не хватило. Он скончался, и Сергей Кравченко будет восполнять нехватку сведений из других, столь же поучительных и почтенных книг.
Крестный путь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Федор и Василий — «вкусившие невинную смерть» от князя Мстислава; — так у нас любой в преподобные попасть может;
Григорий — сочинитель канонов;
Онисифор Прозорливец;
Пимен Многоболезненный — 20 лет страдавший хворью и окончательно исцелившийся со смертью;
Спиридон и Никодим просфорники — 30 лет отдавшие ремеслу монастырского пекаря и «другие», не упомянутые за скромностью достижений.
Борьба за духовное очищение шла за монастырским забором с переменным успехом, тем не менее, других средств нам не разрешали. И монастыри множились на Руси вполне успешно. Их было построено в 11-12 веках по нескольку в крупных городах, всего насчитывалось, пожалуй, несколько десятков. Они различались убранством, богатством, популярностью, обеспеченностью в голодные годы и холодные зимы. Только устав у них был практически единый — по образцу Киево-Печерского. Да «спасение» они предлагали однотипное — негарантированное, зависящее не от святости стен, а от субъективных свойств самого спасаемого.
Глава 20
Культурная революция
Когда приходят новые времена, народ начинает желать перемен. Он думает, что сейчас его накормят, напоят и развлекут. Народу объясняют, что кормежка — дело житейское, и тут у нас полная свобода личности: что найдешь, то и съешь, где можешь, там и добывай.
— А дадим мы вам, — говорят, — новый порядок, новую культуру. Она косвенным образом будет способствовать вашей сытости. Поняли? Нет. Тогда идите в церковь. Там разъяснят.
Первая русская культурная революция — поголовно-православная — дала нам очень много: письменность, чтение вслух и чтение про себя, пение церковных композиций, правила домашнего и общественного обихода.
Но, как любое другое массовое мероприятие, революция эта больше отобрала, чем дала. Она провела жесткие рамки использования дарованных инструментов.
Она угробила несчетное количество граждан, не согласных с новыми правилами; репрессировала множество вольнодумцев и критиков. Сформулировала беспредельный перечень предосудительных, грешных занятий. Она запретила:
— использовать письменность, иначе как для церковных и деловых документов;
— петь не по церковным случаям, сочинять, распространять светскую музыку;
— использовать любые музыкальные инструменты;
— танцевать и допускать любую жестикуляцию, кроме крестного знамения;
— ставить любые спектакли, кроме церковных литургий и крестных ходов;
— проводить ритуалы свадеб, встреч новорожденных, похорон по нецерковным правилам;
— питаться по зову печени, а не по годичному церковному расписанию;
— вообще, есть, пить, сексом заниматься в определенные дни, недели, месяцы;
— анализировать и синтезировать, пользоваться логикой и диалектикой, проводить научные исследования и выполнять конструкторские разработки;
— ставить диагноз, лечить и лечиться чем-либо, кроме молитвы;
— считать государственную власть земной, народной, сменной;
— допускать вольные мысли обо всем вышеизложенном.
На тысячу лет у нас почти остановился процесс национального культурного развития. А все, что появилось за последние 100-200 лет, было сделано вопреки православной церкви, а не с благословения ея.
Самое ценное, что церковь воспитала в нас — это чувство неограниченной внутренней свободы. Мы, русские, очень рано поняли, что если делать все по-православному, то как раз сдохнешь, осовеешь, отупеешь, оскопишься. И постепенно, — от тайных языческих пережитков, от подвижного языка за сжатыми зубами, — родилась, окрепла и восстала железной твердью наша великая Свобода — Свобода от Государства, Церкви, любого начальства, любых законов.
Процесс внутреннего освобождения произошел не враз. Почти тысячу лет мы накапливали понимание нашего скрытого права, тайной свободы совести, вторичности веры и доверия — первичности знаний. И должно же было это сработать?!
Вот оно и сработало! А вы говорите, в революциях 20-века Маркс виноват, евреи! Евреи, согласен, но не Маркс-Ленин-Троцкий, а ветхозаветный легион и новозаветная когорта. Они нас научили, КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ. А уж, КАК НАДО, мы сами придумали.
Я думаю нашей РПЦ очень смешным покажется обвинение в организации февральского отречения Романовых и октябрьского переворота 1917 года.
Не волнуйтесь, отцы святые, репрессий не будет. Мы не конкретно вас обвиняем, а вашу систему вообще. Чувствуете разницу? Это типа, как КПСС — организация преступная, а рядовые коммунисты, — наши партнеры по забиванию козла, — нормальные ребята.
Ну, поехали дальше.
Князь Ярослав Владимирович Мудрый завел училища. Духовные, понятное дело. Там учились поповские дети, кое-кто из придворного сословия. Читали исключительно Евангелие и жития святых — поучительные рассказы о праведных делах отдельных героев церкви, изложенные гораздо строже, чем в наших предыдущих главах.
Умение читать порождает тягу к книге. Книг хочется разных. Значит, кто-то их должен все время писать. Но писать-то особенно нельзя, вернее можно, но об одном и том же. И еще: «книга — источник знаний» — была такая нехитрая школьная заповедь. Но околоцерковные книги как раз никаких полезных знаний не давали. Они внушали веру — альтернативную знаниям вещь.
Однако, у древнего народа стали появляться вопросы, практически такие же, как у нас с вами.
— С какой стати на нас напали половцы? И почему нас, православных, полегло в боях больше, чем этих поганых агарян?
— Молимся круглые сутки, а нам на голову — то ливни, то засуха! А иудей из Хазарии приезжал, говорит, у них ничего, все нормально.
— Вот еще голод случается регулярно, и никакой манной кашки с неба нам не падает. Почему нет гуманитарной помощи голодающим единоверцам?
Вопросы эти были очень опасны, они выводили массы на грань атеизма, анархии, бесконвойности. Надо было отвечать. Отвечать на бумаге было позволено только церковным писателям. Жанр их писания тоже был строг — «Поучение» или «Слово». «Поучения» адресовались неразумной пастве, «Слова» — всем прочим, ибо не каждого позволено поучать.
Когда-то в «Литературной газете» была рубрика — «Повести, состоящие из одних названий». Названия «Поучений» и «Слов» тоже говорят о содержимом вполне исчерпывающе:
«Слово митрополита Иллариона в похвалу святого Владимира»;
«Поучение о пользе душевной ко всем православным христианам»;
«Поучение блаженного Феодосия, игумена Печерского, о казнях Божиих».
Среди казней Божиих упоминаются голод, мор, внешняя агрессия, — и все это — наказание за грехи. Главный наш грех — пережитки язычества.
Вот, идешь ты по улице и встречаешь монаха. Что надо делать? Перекреститься, поклониться, спросить благословения. А ты?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

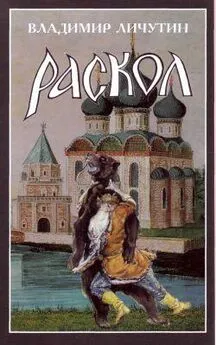
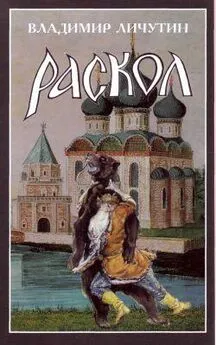
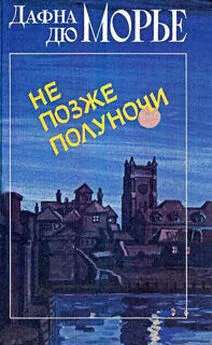
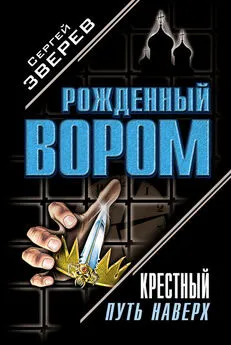
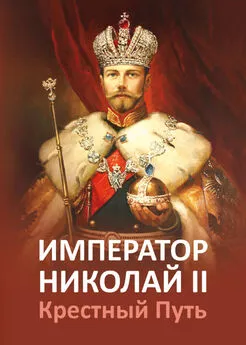
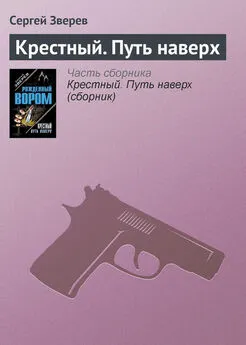
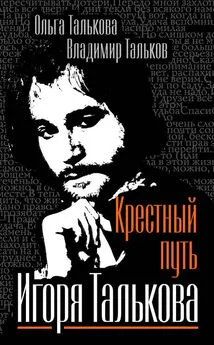
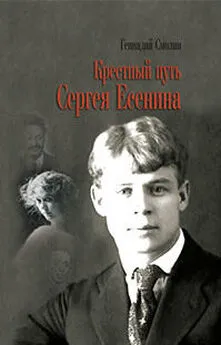
![Генри Каттнер - Крестный путь сквозь века [Перекресток столетий, Сквозь века]](/books/1109541/genri-kattner-krestnyj-put-skvoz-veka-perekrest.webp)